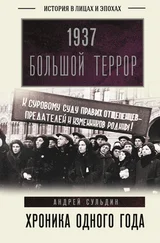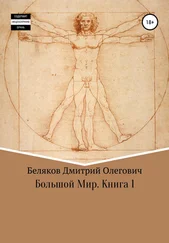Баумана обвинили в левацком загибе, сняли с поста и послали на низовую работу в Среднюю Азию. [66] 65. Ciiiga, р. 96.
Поражение было признано. Крестьяне разбегались из колхозов. Сталинская политика провалилась.
В любой другой политической системе это было бы самым подходящим моментом для выступления оппозиции. Было ведь ясно, что оппозиция права. И действительно, поддержка правых руководителей самопроизвольно началась в партийных организациях по всей стране. Среди народа в целом правые были, конечно, все еще сильнее других. Но Бухарин, Томский и Рыков не возглавили этот порыв, не воспользовались потенциальной поддержкой. Наоборот, они опубликовали заявление, что выступать «против партии», особенно при поддержке крестьянства, было немыслимо. Так поражение сталинской политики сопровождалось политической победой. Томского вывели из Политбюро в июле 1930 года, а Рыкова в декабре. С этого момента состав Политбюро стал чисто сталинским.
Лидеры правых считали сталинское руководство катастрофой и надеялись на его падение, однако своим ближайшим соратникам они советовали терпеливо ждать смены настроения в партии. Бухарин склонялся к тому, чтобы организовать всеобщую поддержку идеи изменений без какой бы то ни было прямой организационной борьбы в настоящее время. Более молодым оппозиционерам он, как говорят, советовал полагаться на массы, которые рано или поздно осознают фатальные последствия сталинской линии. [67] 66. G. A. Tokaev, «Betrayai of an ldeal», London 1954, pp. 167-68.
Необходимо, дескать, терпение. Так Бухарин признал свое поражение в смутной надежде на какое-то улучшение в будущем.
Троцкисты выражали такую же надежду на перемены. «Капитулянт» Иван Смирнов в издававшемся Троцким за рубежом «Бюллетене оппозиции» теперь заявлял: «В связи с неспособностью нынешнего руководства выйти из экономического и политического тупика, в партии растет убеждение в необходимости смены руководства». [68] 67. «Бюллетень оппозиции» № 31, ноябрь 1932.
А Сталин, отступая, вовсе не отказался от своих планов коллективизации. Он теперь предложил провести их в жизнь в течение более продолжительного периода — теми же бесчеловечными мерами, но с чуть лучшей подготовкой. Повсюду на местах, перед лицом враждебного крестьянства, партия вела перегруппировку и готовилась к дальнейшим отчаянным шагам.
К концу 1932 года, применяя гораздо лучше подготовленное сочетание беспощадности и экономических мер, Сталину удалось почти полностью коллективизировать все крестьянство. Сопротивление подавлялось теперь довольно простым способом. Если крестьянин производил только на свою семью и ничего не оставлял государству, то местные власти меняли это положение на обратное. Последние мешки с зерном вытаскивались из крестьянских амбаров и шли на экспорт, в то время как в деревне бушевал голод. Экспортировалось даже масло, а украинские дети умирали от отсутствия молока. [69] *Вывоз зерна за границу о начале 30-х годов достиг своего максимума со времени революции: около 5 миллионов тонн в 1930/31 году, и 1¾ [млн. ] тонны во время голода 1932/33 года. В 1929/30 году вывоз зерна не достиг и 200 тысяч тонн.
Сталина можно с полным правом обвинить в создании голода на селе. Урожай 1932 года был приблизительно на 12 % ниже среднего уровня. Но это еще совсем не уровень голода. Однако заготовки продуктов с населения были увеличены на 44 %. Результатом, как и следовало ожидать, был голод огромных масштабов. Возможно, это единственный в истории случай чисто искусственного голода.
Это также единственный крупный голод, самое существование которого игнорировалось или отрицалось властями. Голод в Советском Союзе удалось тогда в значительной мере скрыть от мирового общественного мнения.
По-видимому, советские официальные лица подтвердили существование голода только один раз, да и то случайно. В обвинении по делу сотрудников народного комиссариата земледелия — их тогда судили за саботаж, — сказано, что они использовали свое служебное положение для создания голода в стране. [70] 68. «Известия» 12 марта 1933.
Кроме того, украинский президент Петровский сообщил западному корреспонденту, что умирали миллионы. [71] 69. Fred Е. Beal, «Word from a Native», London 1937, pp. 254-55.
Тридцать лет спустя занавес на короткое время приподнялся еще раз — теперь уже в советской литературе. Описывая те времена, в романе «Люди не ангелы» Иван Стаднюк подытоживает: «Первыми умирали от голода мужчины. Потом дети. Потом женщины». [72] 70. Иван Стаднюк, «Люди не ангелы», «Нева» № 12, 1962, стр. 58. В том же романе, вышедшем отдельным изданием, («Роман-газета», № 16 (292), 1963, Москва) эта фраза опущена. О гибели детей см. также John A. Armstrong, «The Politics of Totalitarianisms», New York 1961, p. 7; Frank Lorimer. «The Population of Soviet Union: History and Prospects», League of Nations, Geneva 1946; Василий Гроссман, «Все течет», Франкфурт-на-Майне, 1970, гл. 14, особенно стр. 126-27.
Читать дальше
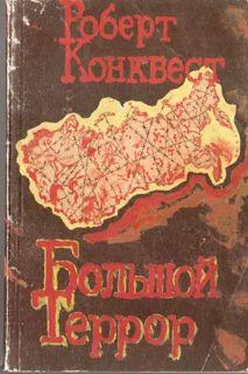
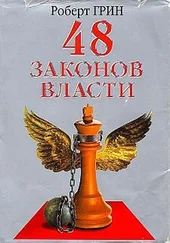
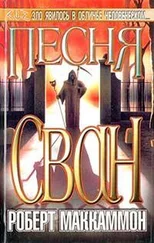
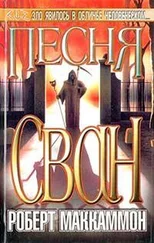


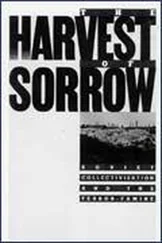
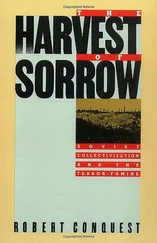
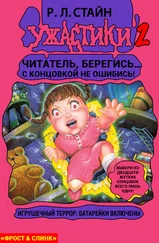
![Дмитрий Олегович - Большой мир. Книга 1 [AT]](/books/400311/dmitrij-olegovich-bolshoj-mir-kniga-1-at-thumb.webp)