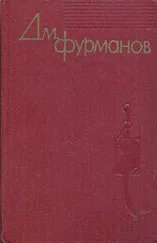- Взяли? Без бою взяли!
И он сурово глядел через очки сухими печальными глазами.
Уж сумерками наливался октябрьский день, когда прибежали на Талку. Вечерние туманы спадали на тихое, пустое поле. Ямские сотни обернулись десятками. В горе стояли у мостика, тихо, словно в покойницкой, говорили о шереметьевской бойне, считали редкие ряды, свертывали знамена. На пустынном лбище приречного луга застыли крошечной кучкой. Струилась Талка жалобными тихими струями. Стоял немой и черной стеной молчаливый бор. Мерно вздрагивали в шелестах густые мохнатые лапы сосен.
В это время издалека прояснилось смутное пятно черной сотни - она валила на Талку. Позади, как там, на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.
Решили отойти за мостик, - встали около будки, у бора. И когда ревущая пьяная ватага сомкнулась на берегу - заорала к будке:
- Высылай делегатов... Давай переговоры!
Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. Их никто не вздумал удержать - двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу - их в тот же миг окружила гудущая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачищи, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:
- Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!
Николай Дианов крепко Фрунзе схватил за рукав:
- Куда побежишь, безумный, - или не видишь казаков.
Дрожали в бессильном гневе, но все остались у будки... Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, спрыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...
И видно, как поднял окровавленную голову Отец, но вмиг его сбили наземь и снова бешено замолотили глухими, тупыми ударами...
Когда окончена была расправа - повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотней весело ускакали желтые казаки.
В пустом и тихом поле лежал одиноко кровавый труп Отца.
Тогда подошли товарищи и увидели смятое тело друга. Вкруг по земле студенистой слизью дрожали мозги. Кровью и грязью кровавой было излеплено лицо. В комьях спуталась серебристая черная шершавая борода; обвисли мокрые тяжелые усы. Переломанные, свернулись в дугу ноги. Сквозь разодранную черную рубаху густела синяя, страшная грудь.
Подняли молча труп на руках, несли через речку, вступили в лес, спрятали в глухой чаще.
Из кольев и мешков сладили носилки, положили на них Павла Павлыча, унесли к какому-то ближнему фельдшеру, сдали в надежные руки.
Поздней ночью во тьме уходили из лесу.
Это было 22 октября.
23-го на Управской площади монархисты собрали тысячи народу, разжигали страсти погромными речами:
- Жиды бунтуют Россию.
- Врагов народных - уничтожать, как вшей.
- За нашего государя... за нашего государя.
Попы кадили на площади:
- За веру святую... за господнюю церковь.
И, возбужденные, тронули тысячи к собору.
Попы святили, попы кропили водой, служили молебны, кадили на погром. И вот с иконами, с портретами, с хоругвами - хлынула по городу черная сотня. Два дня громили город. Рыскали по фабрикам, по домам - вытаскивали на расправу "депутатов", рабочих вождей, мучили их, убивали на глазах в смертной дрожи дрожавших ребятишек. Город осатанел в кровавом чаду, в терпком ужасе остыли рабочие корпуса.
И когда, пресытившись буйством, отошла погромная череда, - решили ночью большевики схоронить Отца, - труп его долгие дни таили от всех. И в глухую ноябрьскую ночь, в ночь на шестое, крались темными переулками к бору.
Привезли на Талку сосновый плотный гроб - гроб обили в багровый кумач. Качались у гроба с концом золотые кисточки, играли в колеблемом факельном зареве. Голову Отца обернули в красное знамя, оправили черный отцовский пинжачок - с него не вытравишь кровавые следы! Пригнули тощие надломленные ноги - втянули в сосновую раму гроба. Шрамами черные полосы расползлись в чесучовом лице, упали глубоко внутрь пустые широкие глазницы.
В два аршина, неглубоко, взрыли тугую могилу - стояли с заступами на рыхлых бугорках похоронной земли.
Молчала сырая ноябрьская ночь. Пропали звезды в каштановую темень. Плакал сосновый бор похоронным гудом. Плакала тихоструйная Талка, как девочка - робким заливчатым звоном. Трещали жестким хрустом оранжевые факелы. Большевики стояли над гробом, словно в забытьи, и глядели в безжизненное лунное лицо Отца.
- Пора, - шепнул кто-то тихо и страшно.
Читать дальше