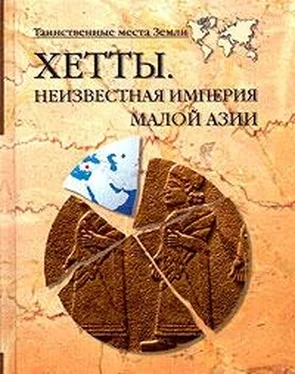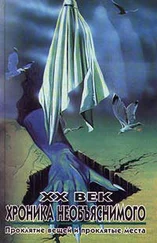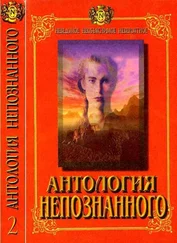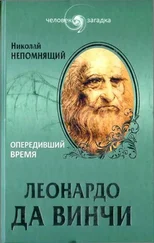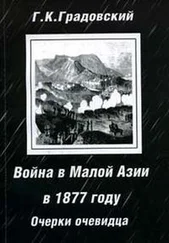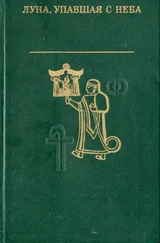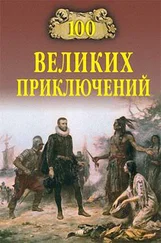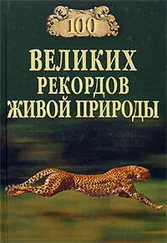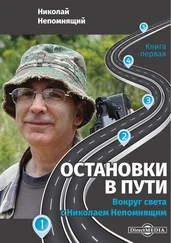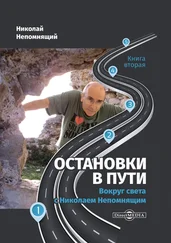В 1903 году в поисках «арцавской» клинописи историк Хуго Винклер из Берлинского университета отправился в Ливан. Там, говорят, видели такие таблички.
Винклер был известным ученым-ориенталистом. Об этом говорит один лишь список его научных трудов. В 1889 году он выпустил двухтомник «Клинописные тексты Саргона»,три года спустя —книгу «Клинописные тексты к истории Ветхого Завета»; он также перевел «Законы Хаммурапи» и написал двухтомную историю Израиля. Он был типичным кабинетным ученым, предпочитавшим вести раскопки на полках библиотек и разгребать не землю, а пыль, покрывшую книжные тома. Он был из тех ученых, что делают открытия на кончике пера; впрочем, чаще всего у них получаются лишь удачные компиляции.
Однако новость об «арцавских» письменах звучала так интригующе, что Винклер не удержался от «научной экспедиции», то бишь на свой страх и риск, в одиночку, поехал на землю древней Финикии. К тому времени его отношения с коллегами окончательно испортились. Никто не хотел признавать идею, овладевшую им, а она была так гениально проста! Винклер, все еще доцент, не профессор (вот они, происки врагов!), считал, что вся человеческая культура происходит… из Вавилона. Этот город был подлинной колыбелью человеческой цивилизации. Здесь были сделаны все изобретения, все открытия; здесь зародились все идеи, когда-либо осенявшие людей. Короче говоря, Винклер был решительным «панвавилонистом». Для него все цивилизации от Китая до Южной Америки были лишь бледными копиями великого Вавилона. Его коллеги посмеивались над ним, и он решил ненадолго сбежать из Германии.

От древнего глиняного кувшина сохранился только фрагмент , изображающий башню
В Ливане его ждала полная неудача. В досаде он вернулся в Берлин, где его ждало утешение: он был назначен экстраординарным профессором. С этого дня Винклер зарекся от участия в каких-либо раскопках. Ясно же, что он не приспособлен для этой работы!
Через несколько месяцев, когда неудача уже стала забываться, он неожиданно получил по почте подарок — табличку на «арцавском» языке, присланную из Стамбула. Ее отправителем был Макриди-бей, сотрудник местного Оттоманского музея. С ним Винклер познакомился во время недавней поездки.
Сборы длились недолго, и вот уже Винклер беседует в Стамбуле со своим корреспондентом. Оказывается, эту табличку нашли в деревне Богазкей, в Анатолии, а не в Сирии. Вместе с Макриди-беем Винклер поехал в эту отдаленную деревушку, лежавшую на высоте 1000 метров над уровнем моря. Он и представить себе не мог, в какую глушь попадет. Ориенталисту решительно ничего не нравилось на Востоке. Днем ему было слишком жарко, ночью — холодно. Он жалуется на клопов на постоялых дворах, на «ужасные лошадь и седло». Ему кажется, что он попал в средневековую страну. «Как можно жить в этом диком краю?» — ворчал немецкий профессор, но съездил он не зря.
19 октября 1905 года Винклер в первый раз осмотрел руины, лежавшие невдалеке от деревни. Удивительно! Вот участок, огороженный каменными стенами. Чуть дальше по склону взбираются циклопические стены, стоят огромные камни, ворота с каменными львами — целый город, покинутый город. Его стена в поперечнике достигала километра — по античным меркам, это был очень большой город.
Где же нашли эту табличку? Винклер расспрашивал крестьян. Они не могли взять в толк, о чем идет речь: эти же черепки попадаются всюду. Не мешкая, Винклер взялся за раскопки, а уже через три дня начались проливные дожди. Надо было срочно возвращаться в Анкару, иначе он мог на всю зиму застрять в этой глуши, где не было и сотни домов. Он покидал Богазкей. Ученого переполняла радость; он вез с собой тридцать четыре таблички с таинственными письменами. Небывалая удача!
Летом 1906 года Винклер поехал в Богазкей уже во главе небольшой экспедиции. Теперь у него были деньги для проведения раскопок. Его поддержали Германский археологический институт и Германское Восточное общество, директора музеев и банкиры. Вместе с ним вновь поехал и Макриди-бей. Целыми днями жители деревни рылись в земле. Герр профессор, как ребенок, вертел в руках сотни принесенных ему табличек, осматривал их, складывал лишь в ему ведомом порядке. Вот только прочитать не мог. Почти все надписи были сделаны на «арцавском» языке. Лишь кое-где попадался знакомый ему аккадский текст. Однажды ему принесли табличку, на которой было начертано:
Читать дальше