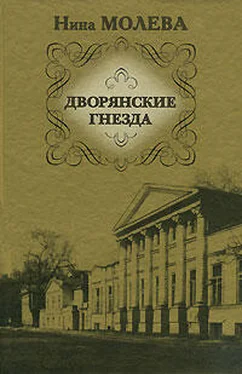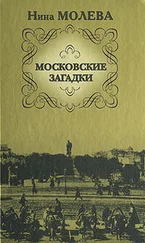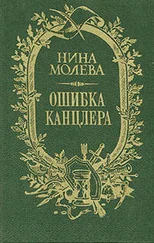М. Гермашев. Арбат. Былое домовладение Суворовых. Начало ХХ в.
Так не было принято. Но императрица слишком дорожила полководцем (как еще недавно и его отцом). Самое большее, чего удалось ей добиться, – сохранить видимость семейных отношений, тем более что Суворов и так почти не бывал дома. Что же касается дочери, тут Александр Васильевич оставался непреклонным: такая мать не имеет права воспитывать Суворочку. Госпожа Делафон молча выслушала решение отца. Приказ будущего фельдмаршала был точно выполнен и начальницей Смольного института, и самой Суворочкой. Вот если бы еще внучка стала похожей на свою бабку!
…Все в жизни Суворова превращалось в легенды и порождало легенды. Все, кроме матери, Авдотьи Федосеевны Мануковой… В последние десятилетия у армянских историков появилась версия, что настоящее ее имя – Ануш Манукян. Однако, несмотря на близкое фонетическое звучание фамилий, армянское происхождение Мануковых доказать трудно, тем более что было их в Москве XVII века великое множество: от ремесленников до высоких царских чиновников.
Отец Авдотьи – из числа последних. Он состоял дьяком Поместного приказа, ведавшего поместьями, вел в 1704 году перепись поместий и вотчинных земель Московского уезда, позже стал вице-президентом Вотчинной коллегии. Имел дьяк Федосей родовой двор на Иконной улице, в нынешнем Филипповском переулке у Арбатской площади. Сменил его на арбатский двор (под нынешним № 14 Старого Арбата), который поделил потом на две части, отдав в приданое дочерям. Старшая, Авдотья, стала женой бомбардир-сержанта Преображенского полка Василия Ивановича Суворова, младшая, Прасковья, – полковника Московского Драгунского полка Марка Федорова Скарятина (память об этой семье и поныне хранит Скарятинский переулок на Большой Никитской). Чины зятьев, казалось, разительно отличались друг от друга, но породниться с Суворовыми считалось в ту пору большой честью.
Сам полководец любил рассказывать, что вел свой род от «честного мужа Сувора», выходца из Швеции, якобы поступившего на службу к Михаилу Федоровичу Романову в 1622 году. Но розыгрыши Александра Васильевича были слишком хорошо знакомы современникам. Уже Екатерина II называла шведскую версию полным абсурдом. Отвергал ее и блестящий офицер и дипломат тех лет Семен Романович Воронцов. Их правоту подтверждают документы, не говоря уже о том, что фамилия Суворовых вообще была достаточно распространена в Московском государстве. И могла происходить от прозвища «сувор» – нелюдим, брюзга или, наоборот, молчун, от «сувориться» – сердиться, упрямиться, от «суворь» – так называли крепкое место близ сука на дереве или корня на пне, которое не берет топор.
Григорий Суворов, прадед полководца, служил подьячим Приказа Большого дворца – немаловажная должность в бюрократическом раскладе Московского государства. Свою дочь Наталью выдал он замуж за располагавшего собственными деревнями «жильца» Михайлу Архипова Самсонова, наверняка облегчив путь по чиновничьей лестнице сыну Ивану. Хотя и бытовала легенда о том, что дед военачальника был священником одного из кремлевских соборов (якобы одна из причин глубокой набожности Александра Васильевича), в действительности Иван Григорьевич являлся одним из ближайших соратников Петра I. По возвращении царя-преобразователя из первой заграничной поездки – Великого посольства 1696–1697 годов, он становится известен как генеральный писарь потешных, Преображенского и Семеновского, полков, иначе говоря, как руководитель возникшего для реорганизации обновленной русской армии Генерального двора. Тогда-то и появляется на землях Преображенской слободы сохранившая до наших дней свое первоначальное название Суворовская улица (за тридцать с лишним лет до рождения полководца).

Церковь Николая Чудотворца (Явленного) на Арбате. Конец XIX в.
Была семья Суворовых крепкой, многолюдной, с хорошей житейской хваткой. Прадед Григорий владел сначала землей у Никитских ворот, в приходе нынешнего Федора Студита. Наследовала ему дочь Наталья, позже внук – подполковник В. И. Суворов. Дед, Иван Григорьевич, жил «на своем» за Покровскими воротами, в Барашевской слободе, в приходе церкви Воскресения Христова. Незадолго до смерти перебрался он с семьей в Замоскворечье, купив двор «в Татарской улице, в приходе Никиты Мученика». Старший его сын Терентий – дядя полководца – жил также за рекой, но в Кадашевской слободе и служил подьячим Оружейной канцелярии. Средний – Иван Иванович, «царского дому сослужитель», занимался к тому же торговлей, имел несколько лавок в Китай-городе, в Старом Сурожском ряду, и несколько дворов на Старой Басманной, в приходе Никиты Мученика, не считая богатого жилого дома на Сретенской улице. И поведали все эти подробности не современники и не потомки, а скупые строки нотариальных бумаг: купчих, закладных, запродажных, завещаний. Искать романтических черт в подобной родословной не приходилось, а их надо было присочинить. Не случайно в «Дон Жуане» Байрона появились строки:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу