Отмечая, что Советы внезапно «отказались от привычки… излишней скрытности относительно своей космической программы», журнал «Economist» (15 июня 1985 года) сообщал, что недавно советские ученые поразили западных коллег своей открытостью, «откровенно и с энтузиазмом рассказывая о своих планах». Еженедельник отметил, что основной темой были полеты на Марс.
Такие разительные перемены были тем более загадочными, что в 1983 и 1984 годах Советский Союз значительно обогнал США в освоении космоса. К этому времени СССР уже вывел на орбиту Земли серию станций «Салют» с экипажем, члены которого ставили рекорды по продолжительности пребывания в космосе, а также накопили опыт в обслуживании и снабжении этих станций. Сравнивая две национальные космические программы, конгресс США назвал их американской черепахой и советским зайцем. Тем не менее, к концу 1984 года появились первые признаки возобновления сотрудничества — на советском космическом аппарате «Вега», предназначенном для исследования кометы Галлея, был установлен американский научный прибор.
Были и другие проявления нового духа сотрудничества, полуофициальные и официальные — и все это несмотря на СОИ. В январе 1985 года ученые и официальные лица из оборонного ведомства, собравшиеся в Вашингтоне для обсуждения программы СОИ, пригласили руководителя советской космической программы (впоследствии главного советника Горбачева) Роальда Сагдеева. В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Джордж Шульц встретился со своим советским коллегой в Женеве, где они договорились возобновить «скончавшееся» американо-советское соглашение о сотрудничестве в космосе.
В июле 1985 года ученые, официальные лица и космонавты из США и СССР встретились в Вашингтоне — якобы для того, чтобы отпраздновать десятилетие стыковки «Союза» и «Аполлона». На самом деле это был семинар, посвященный совместному полету на Марс. Через неделю Брайан О'Лири, бывший астронавт, сказал на конференции в Лос-Анджелесе, что следующим гигантским шагом человечества будет полет на одну из лун Марса: «Лучшим подарком к началу нового тысячелетия будет возвращение с Фобоса и Деймоса, и особенно международной экспедиции». В октябре того же года несколько американских конгрессменов, правительственных чиновников и бывших астронавтов получили — впервые — приглашение от Академии наук СССР посетить советские космические объекты.
Может быть, это был эволюционный процесс, следствие новой политики нового лидера СССР, изменения положения за «железным занавесом» — растущая нестабильность, экономические трудности, которые усилили потребность Советского Союза в западной помощи? Вне всякого сомнения. Но к чему такая спешка в раскрытии
планов и секретов советской космической программы? Может быть, существовала другая причина, какое-то важное обстоятельство, внезапно изменившее ситуацию и установившее новые приоритеты — до такой степени, что потребовалось восстановить союз времен Второй мировой войны? Но в таком случае кто теперь стал общим врагом? Против кого Соединенные Штаты и Советский Союз согласовывали свои космические программы? И почему оба государства отдавали приоритет Марсу?
Несомненно, у обеих сторон были причины для такого неожиданного дружелюбия. В Соединенных Штатах многие военные и консервативные политики выступали против «ослабления бдительности», и особенно в том, что касалось космоса. В прошлом президент Рейган соглашался с ними, на протяжении пяти лет отказываясь встречаться с руководителями «империи зла». Однако теперь появились веские причины для встречи и переговоров — наедине. В ноябре 1985 года состоялась встреча Рейгана и Горбачева, после которой они провозгласили новую эру сотрудничества, доверия и взаимопонимания.
Рейгана спрашивали, как он объясняет этот разворот на сто восемьдесят градусов. Он отвечал, что у двух стран общие интересы в космосе. Более того, он говорил об угрозе из космоса всем народам Земли .
При первой же возможности объяснить происходящее общественности, Рейган выступая 4 декабря 1985 года в Фолстоне, штат Мериленд, заявил:
«Как вы знаете, почти две недели назад мы с Нэнси вернулись из Женевы, где я имел несколько продолжительных встреч с Генеральным секретарем Горбачевым.
В дискуссиях мы провели более пятнадцати часов, причем пять часов наедине. Я понял, что это решительный человек, но в то же время готовый слушать. Я рассказал ему о страстном стремлении американцев к миру, о том, что мы не угрожаем Советскому Союзу и что, по моему глубокому убеждению, народы наших стран хотят одного — более безопасного и счастливого будущего для себя и своих детей…
Читать дальше
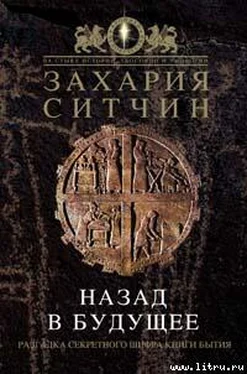
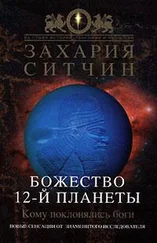
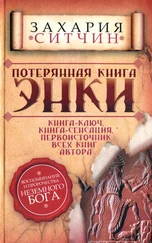
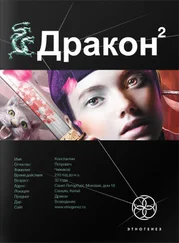
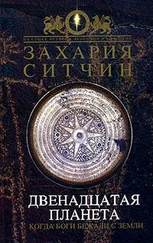
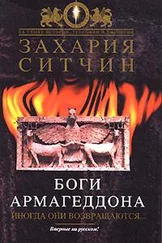
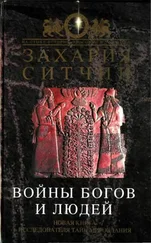
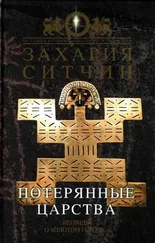
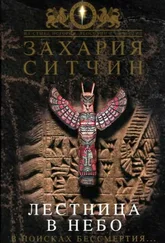
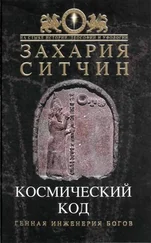
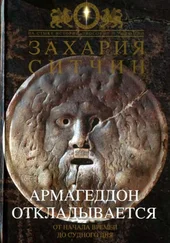
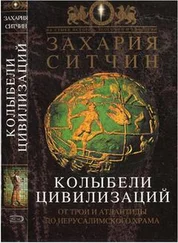
![Владимир Поселягин - Назад в будущее [litres]](/books/414266/vladimir-poselyagin-nazad-v-buduchee-litres-thumb.webp)