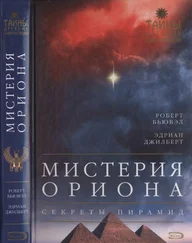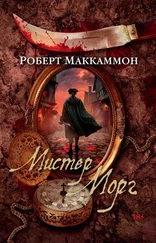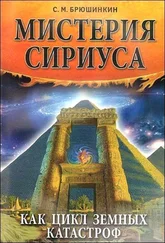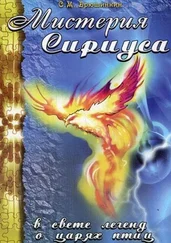Ряд мест в «Географии» Птолемея заслуживает пристального внимания с историко-геодезической точки зрения. Я предположил, что параллель, проходящая через остров Родос и разрушенный взрывом вулкана остров Санторин, была одной из составляющих оракульской октавы. И действительно, в книге Птолемея эта параллель упоминается чуть ли не на каждой странице. Не остается сомнений, что древние географы придавали ей особо важное значение.
К примеру, в книге I он пишет:
«Параллель, проходящая через Родос, заслуживает отдельного упоминания. На ней расположено большое количество пунктов, расстояния между которыми были измерены с необходимой точностью и найдено правильное соотношение между ними и окружностью большого круга. В этом мы следовали за Марином, который в свою очередь следовал за Эпитекартом. Действуя подобным образом, можно вычислить правильные соотношения между размерами Земли в направлении с юга на север, о которых мы имеем определенное представление, и ее размерами в направлении с запада на восток». Покажем, как это можно сделать, исходя прежде всего из геометрических свойств сферы». [297]
И в другом случае:
«[Марин] преуспел только в вычислении правильного отношения длины параллели, проходящей через Родос, к величине меридиана и экватора». [298]
Географические координаты многих точек, сообщаемые Птолемеем, ошибочны — и это не так уж странно. Но тот факт, что он неоднократно упоминает «родосскую параллель» как своеобразную точку отсчета, говорит, разумеется, в пользу идеи оракульской октавы. Птолемей и Исин основывались в своих рассуждениях на очень сходных предпосылках.
Объем использованной Птолемеем фактической информации исключительно велик. Многое явно заимствовано из рассказов путешественников, собранных в различных хранилищах и библиотеках за предшествующие столетия и до нас уже не дошедших. Многое он вообще оставляет почти без комментария. Эти рассказы собраны довольно бессистемно, и многие из них крайне фантастичны — но объем этого собрания поражает. Птолемей явно не испытывал недостатка в информации как из первых, так и из вторых рук — не говоря уже об огромном количестве карт, портоланов (морских справочников, содержащих описания побережий и портов) и помощи со стороны картографов. Меня, однако, удивляет его полнейшее нежелание хоть как-то упорядочить этот массив данных. Согласитесь, что, взглянув на огромную кучу дров, трудно представить себе, как выглядел тот лес, из которого их привезли.
Мне представляется, что «География» Птолемея впитала в себя значительную часть фактов, которые были собраны древними географами, — но в полном отвлечении от объединявшей их некогда теоретической системы. От этой системы остались лишь смутные воспоминания — и несколько оракульских центров с их омфалами. Дополнив факты собственным воображением, Марин, Птолемей и их коллеги-географы сконструировали свою собственную — в чем-то правильную, в чем-то ошибочную — картину мира. Но главное для них осталось за кадром, и в хаосе имен и названий они, откровенно говоря, совершенно запутались. С большим или меньшим успехом они пытались оценивать расстояния между различными пунктами в «днях пути» и в подобных «мерах», но им совершенно не от чего было при этом оттолкнуться. (Птолемей, кстати сказать, хорошо понимал всю сомнительность таких попыток и подчеркивал, что длительность путешествия зависит все-таки от того, по какой местности приходится следовать.) Оставалось импровизировать.
Мне древнегреческие географы напоминают актеров, потерявших тексты своих ролей и помнящих лишь общий ход действия. Тем более поучительно прочитать «Географию» и убедиться, чего можно достичь, располагая лишь разрозненными фактами и здоровым скептицизмом. Результат не столь уж безнадежен — но, впрочем, и не блестящ.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОГОНОВ
Вернемся к Геркулесу и числу 50. Из сочинений Павсания (книга IX, 27, 5) становится ясно, что между ними существует определенная связь. Рассказывая о Феспиях — беотийском городе, расположенном недалеко от Орхомена, он писал:
«Есть у феспийцев и храм в честь Геракла; жрицей в нем является девушка, несущая эту службу до самой своей кончины. Причиной этого, говорят, было следующее: у Феспия было 50 дочерей, и с ними со всеми в одну и ту же ночь сочетался Геракл, со всеми, кроме одной, которая одна только не пожелала сойтись с ним. <���Разгневанный на нее>, Геракл решил наказать ее тем, что осудил ее на всю жизнь остаться девственницей и быть жрицей в его храме. Я лично слыхал другой рассказ, будто Геракл в одну и ту же ночь имел связь со всеми дочерьми-девственницами Феспия и что все они родили ему сыновей, а самая старшая и самая младшая — даже двойни. Первый рассказ я не могу считать верным, так как едва ли Геракл мог прийти в такой гнев по отношению к дочери своего друга. Кроме того, когда он еще жил среди людей, наказывая других, позволявших себе насилие, и особенно за преступления по отношению к богам, как мог бы он воздвигнуть себе храм и назначить жрицу, как богу. В действительности этот храм мне показался более древним, чем время Геракла, сына Амфитриона, и принадлежит, вероятно, так называемому Гераклу из идейских Дактилей, тому самому, храмы которого, по моим разысканиям, были и у эритрейцев в Ионии, и у жителей Тира. Да и беотийцы не могли не знать имени этого Геракла, поскольку, говорят, они сами поручили наблюдение за храмом Деметры Микалес-сийской этому ид ейскому Гераклу». [299]
Читать дальше
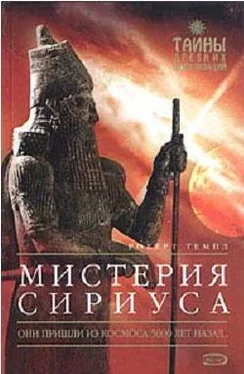
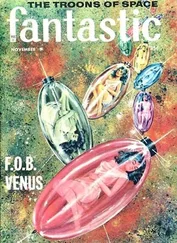
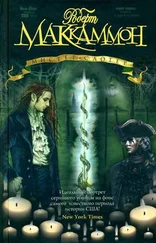


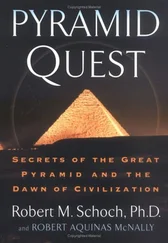
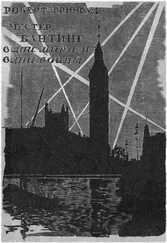
![Роберт Шёнберг - Мистер Капоне [litres]](/books/405007/robert-shenberg-mister-kapone-litres-thumb.webp)