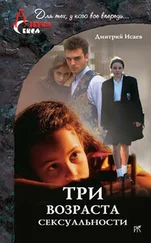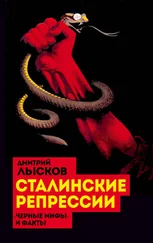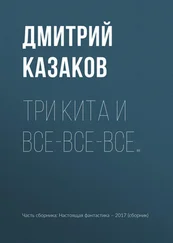Другой мерой по преодолению кризиса являлся запрет вывоза продовольствия за пределы той или иной местности. Характерно, что запреты устанавливались не только для районов избытков, но и для районов недостатков. В первом случае делалось это с целью облегчения заготовки продовольствия для армии, во втором - в надежде на самообеспечение жителей данной территории. Использовались запреты и в качестве меры по борьбе с ростом цен. [14]
В довоенное время и в первые месяцы войны запреты вывоза продовольствия, фуража и других продуктов могли быть установлены только в местностях, объявленных на военном положении. Вводить запреты могли только командующие армиями. 29 августа 1914 года указом Николая II это право было расширено также и для местностей, находящихся на чрезвычайной охране. Право вводить запреты получили командующие военных округов. С 17 февраля 1915 года запреты вывоза стало возможным вводить на любой территории по согласованию военных и гражданских властей.
"По стране прокатилась волна запретов вывоза продовольственных и кормовых продуктов, - пишет Кондратьев. - Трудно указать местность, где бы в той или иной форме не практиковались запреты". [15]
17 августа 1915 года, с образованием "Особого совещания по продовольствию", право вводить запреты вывоза получил председатель Совещания, военная власть отныне могла вводить запрет только по согласованию с ОСО. В этом вопросе было установлено единоначалие.
Аналогичную эволюцию претерпело право на реквизиции - прямое отчуждение продуктов с выплатой владельцу лишь части твердой цены за него. Применение реквизиций предусматривалось для военных властей в прифронтовых областях, а затем и для гражданских властей по всей стране при невозможности осуществить заготовку обычными средствами.
Не существует сведений о широком применении реквизиций до Февральской революции, создавшей первые вооруженные продотряды. По данным Кондратьва лишь 0,1 процент заготовок на театре военных действий пришелся на этот метод в первый период войны [16]. Есть данные о 50-60 случаях применения реквизиций за октябрь 1915 - февраль 1916 гг. [17] В целом же реквизиции оставались методом психологического давления, постоянной угрозой для торговцев и хозяев, отказывавшихся продавать хлеб по твердым ценам.
Но по мере разрастания кризиса, снижения посевных площадей, крушения транспортного сообщения и рынка продуктов разрыв между "вольными" и твердыми ценами все увеличивался. Государственная программа заготовки оказалась под угрозой. Выход был найден в продовольственной разверстке - системе принудительного изъятия хлеба у крестьян по твердым ценам в объемах, необходимых государству.
Суть предложенной министром земледелия А.А.Риттихом 29 ноября 1916 года системы состояла в том, что государственное задание по заготовке продовольствия спускалось ("разверстывалось") по линии "Особого совещания" на губернский уровень, далее - на местный и т.д. вплоть до конкретных хозяйств. В обратном направлении по той же цепочке, по истечении назначенного времени (6 месяцев), должно было поступить зерно в обозначенных количествах. Были предусмотрены как бонусы, так и штрафы. Районы, до начала разверстки выполнившие государственный план по заготовкам, от разверстки освобождались. Перед теми же, кто уклонялся от разверстки или не мог поставить нужного количества зерна, всерьез вставала угроза реквизиций. [18]
Те немногие исследователи, кто берется сегодня судить о риттиховской разверстке, подчеркивают ее лояльный к крестьянину характер: за хлеб платали, т.е., фактически, покупали его, в отличие от времен Октября. Разверстка была если не в теории, так по факту добровольной - после ее неудачи реквизиции не были применены, и Риттих в стенах Думы обещал, что и не будут.
А.И.Солженицын в «Красном колесе» говорил о риттиховской развёрстке как об идее «активного призыва населения к добровольным поставкам», подчеркивая ее эффективность: «с августа по декабрь, смогли купить только 90 миллионов пудов, а за декабрь-январь Риттих умудрился купить 160 миллионов». [19] В действительности же активная пропагандистская кампания, которая сопровождала разверстку, призывая проявить патриотизм и уверяя, что хлеб пойдет на нужды обороны, носила исключительно вспомогательную функцию. Она была направлена на облегчение процесса разверстки, но не более того.
Во-первых, крестьянина никто не спрашивал, хочет ли он, и готов ли продать хлеб, разверстанный из центра на его хозяйство. Он просто был обязан его отдать. Во-вторых, компенсацию за изъятый хлеб ему выплачивали исходя из твердых цен, которые утрачивали всяческое значение из-за роста инфляции. Напрасно А.И.Солженицын подчеркивает, что Риттих купил эти 160 миллионов пудов хлеба – с торговлей это не имело ничего общего. Надо сказать, что и Временное правительство, и большевики позже точно так же платили крестьянам за изъятое продовольствие - разница с риттиховскими временами заключалась исключительно в масштабах катастрофы в экономике - от трехкратного роста цен к тысячекратному.
Читать дальше