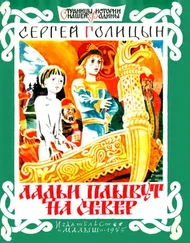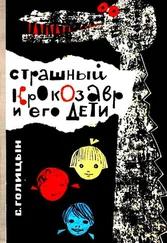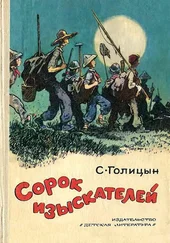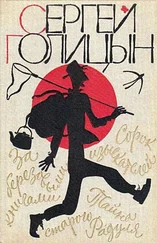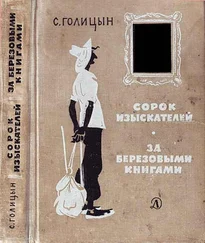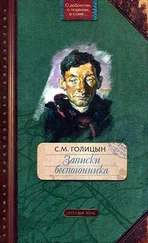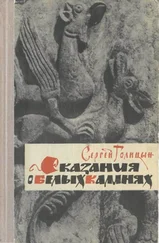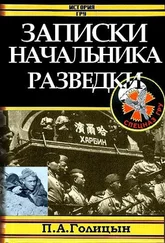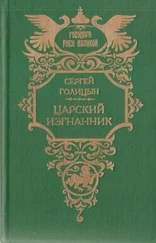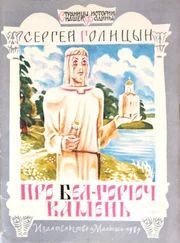Когда храм был закрыт для богослужения - не знаю, и о дальнейшей судьбе кижского батюшки мне нечего неизвестно. А тогда ножичком он отколупнул щепочку с бревна стены - оказалась двухсотлетняя сосна бледно-желтой, точно совсем недавно знаменитый храм непревзойденного мастерства срубили плотники.
С нескольких рядов иконостаса глянули на Андрея и на меня томные скорбные лики святителей. Андрей перекрестился, зашептал молитвы. Перекрестился и я. А сколько еще поколений людей будут являться сюда, будут поражаться искусству и зодчих и иконописцев... А иные останутся равнодушными к былой красоте. Но вряд ли хоть один перекрестится перед поруганной святыней. А впрочем, я слышал, что внутрь обоих храмов теперь не пускают.
За несколько дней, еще плывя на пароходе по Мариинской системе, мы издали любовались другим храмом, весьма схожим очертаниями с Кижским, воздвигнутым на несколько лет ранее и, верно, теми же искусными мастерами-плотниками. Но тот храм в Андомском погосте был о семнадцати главах.
Страшна была его участь: вскоре после войны он - безнадзорный - был сожжен злоумышленниками. Зачем? Да просто так. Говорили, что зарево виднелось за тридцать верст. Теперь о том злодействе стараются забыть...
Переночевали мы у кижского батюшки и отправились дальше - сперва на лодке, затем пешком, сперва на север, потом на запад, шли поперек Заонежского полуострова, переплывали через узкие, обильные дичью и рыбой озера, пробирались по совсем глухим местам. И везде встречали нас гостеприимно, даже радостно, но одновременно и настороженно: чувствовалось, что люди встревожены, а чем встревожены - они и сами не знали, нас выспрашивали. И мы не знали, что ждет и нас, и всю Россию впереди.
Вышли мы к Мурманской железной дороге возле поселка Кондопога. Там тогда велось строительство огромного бумажного комбината.
И в той же Кондопоге на берегу Онего увидели мы высокий стройный храм, как обычно на севере, срубленный из дерева. У Грабаря его фотографии нет. Поэтому тот храм XVII века для нас оказался подлинной неожиданностью. Он уцелел, и его изображение помещается во всех книгах о древнерусском зодчестве. Но изображен он одиноким. А мы видели рядом столь же стройную, но пониже и не менее древнюю колокольню. Искусствоведы утверждают - не было колокольни, а колокола, вероятно, висели на перекладине малой звонницы.
Во время нашего похода Андрей везде старался запечатлеть карандашом хоть сколько-нибудь примечательные церкви и дома. Не знаю, цел ли тот альбом. Отдельные рисунки из него сейчас были бы очень ценны - ведь Андрей запечатлял многое, что ныне исчезло, как исчезла безвозвратно Кондопожская колокольня...
Мы отправились вверх по реке Суне, побывали на знаменитом водопаде Кивач, затем на порогах Грвас и Пoрпорог, видели много красивых и глухих мест, добрались почти до финляндской границы, где у нас впервые за время путешествия проверил красноармеец документы. Те места населяли карелы. Они встречали нас холодно и пускали ночевать только за плату. В конце концов мы вышли к Медвежьей горе - самой северной точке Онежского озера и железнодорожной станции. Всего мы прошли пешком около пятисот километров.
Тогда Беломорско-Балтийский канал и не помышляли копать, и ГПУ основывало редкие концлагеря для лесозаготовок, чтобы отправлять великолепный строевой сосновый лес за границу. А основной концлагерь заключенных находился на Белом море в Соловках.
Много разных красот мы насмотрелись по дороге - леса, озера, горы, реки, овраги, деревянная затейливая резьба на избах. Медвежья гора, вернее, горы, поросшие лесом, огромной подковой окаймлявшие Онего, были особенно живописны.
Именно тут через год началось строительство Беломорско-Балтийского канала и раскинулся многолюдный концлагерь. За колючей проволокой были упрятаны страдания безвинных, потерянные надежды, разбитые жизни. И покоятся тут не в могилах, а во рвах, выкопанных на скорую руку, сотни и сотни тысяч...
А мы с Андреем будущую страшную участь той красоты и не предвидели и в ожидании поезда любовались обширным видом.
Поехали на север до станции Сорока, будущего города Беломорска, построенного на костях заключенных. Там, в дельте порожистой реки Выг, на сорока сплошь каменистых островах стояло по три-четыре избы, а сзади каждой виднелось отдельное кладбище, всего по нескольку могилок. Но вместо крестов поднимались узкие доски с вырезанными на них узорами и надписями. Тут с древних пор жили и покоились под камнями старообрядцы.
Читать дальше