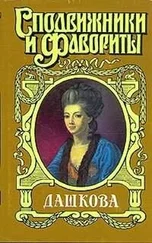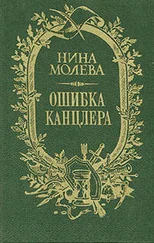— И Никитин согласился? Ведь ученик он его — почему не отказался, резонов за учителя не представил?
— Вроде и в летах ты уже, Дмитрий Григорьевич, а по рассуждению — чисто младенец. Отказаться! Петр Романович бы отказался, другой согласился. Коли судьба такая князю, как ей перечить будешь.
— Я бы отказался!
— Дай же тебе Бог, друже, до старых лет с головой дожить: неровен час потеряешь.
— А хоть и потеряю, против совести не погрешу.
— Сказывал мне Михайла Матвеевич Херасков, какой ты отчаянный, да не верилось, чтоб уж до такого предела. Ему-то в радость, а мы с тобой, хоть и разной породы, а все люди подневольные. Неужто и впрямь думаешь, художника кто за барина почитать будет? Не будет, друже, ни за что не будет. И отчего не будет, скажу. Раз за работу тебе платят, а ты на плату эту живешь, все едино в одном ряду с прислужниками будешь. Да и лукавый силен: все думается, ниже поклонюсь, лучше угожу, больше получу. Художнику оно легко, вот друг перед другом и стараются. Вот ты сказал, картина тебе моя в церкви Петра и Павла по душе пришлась. Может, оно и так, а ведь мог бы я и в Италии поучиться. В пенсионеры государевы назначен был. Не дивись, не дивись, так и было, да сказал по молодости слово лишнее, так на всю жизнь здесь и остался. Спасибо, в Москве прижился. О большем и толковать не хочу. А ты мне будто в укор о совести толкуешь.
* * *
Москва. Замоскворечье. Квартира Левицкого. Левицкий.
Вьюжит. Который день вьюжит за окном. Свет блесткий, а без цвета. Краски гасит. В полдень сумеречными тенями в углах ложится. От печки высокой ценинной теплом тянет, от стен — холодом. Дом старый. Мох в срубе перегнил — хозяину горя мало. Съедешь — не пожалеет, все жарких печей опасается: пожары в Москве не в диковинку. А как без жара холсты сушить. Да холсты еще подождать могут, зато с образами спех великий. Для Кира и Иоанна к октябрю торопились, еще летом топить начали. Да вышло до января ждать. Контора Гофинтендантская под самый приезд государыни расплатилась: едва времени достало образа в иконостас вставить, кое-где фирнисом прикрыть. Для Екатерининского храма зимой спешили, особливо для придела Николы. О нем по первоначалу не подумали, а образов много оказалось. Теперь все. Опекунов в зал Совета в Воспитательный дом вывезли. Образов нет.
Днями Иван Иванович Бецкой к себе позвал. Следует, мол, в Петербург переезжать. В Петербурге Академия, выставки будут, Бог даст, двору приглянешься. А в Москве чего лямку из раза в раз тянуть. Да и заказов не дождешься — дела коронационные к исполнению пришли. Новых не будет. Не станет государыня о Москве думать.
Строганов Александр Сергеевич присоветовал тоже: портрет ему больно понравился. У скольких художников по всей Европе персону свою писать заказывал, а и здесь похвалил. Обещал перед императрицей предстательствовать. Вот и выходит, с первопрестольной прощаться пора. Михайла Матвеевич Херасков сам о Петербурге думает. Все на одно выходит: ехать.
…В старой Третьяковской галерее его можно было не заметить — знаменитого Левицкого, ютившегося в маленькой проходной комнате, с тремя дверными проемами: на главную лестницу, в большой зал, с которого начиналось новое русское искусство, и еще больший зал с полотнами Боровиковского, пейзажиста Федора Алексеева, портретами Степана Щукина. Любители и знатоки ухитрялись задерживаться в людском водовороте, подходить к отдельным холстам, на считанные мгновения встречаться взглядом со спокойными, погруженными в размышления лицами. Развешанные в несколько рядов, они ускользали от внимания, словно избегали встречи. Откупщик Сеземов, супруги Львовы, поэт И.И. Дмитриев — портретов было много, и все же…
Другое дело — Михайловский дворец. В Русском музее все выглядело иначе. Торжественный белоколонный зал. Штучный лощеный паркет. Сложнейшая роспись потолка. Окна, обращенные на газон просторного сада. Всегдашний сумрак — северная сторона! И одинокие посетители, теряющиеся в гулкой дворцовой пустоте, в окружении портретов, среди которых первыми обращали на себя внимание девушки, иначе — как их называли — „Смолянки“. В простых институтских, кокетливых театральных и роскошных модных платьях. Танцующие, декламирующие, рассуждающие, представляющие сценки из давно забытых спектаклей. Они вписывались и все-таки не очень вписывались в белоснежно-золотые интерьеры великолепного зодчего Карло Росси. Они подходили к ним по времени, но представлялись слишком непринужденными, своевольными, не скованными рамками придворного этикета. Они обладали характерами, хотя по требованиям времени должны обладать только красотой. Но красоту рождала кисть художника, его понимание человека и чувство цвета.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу