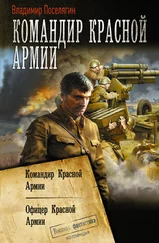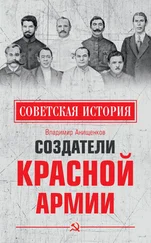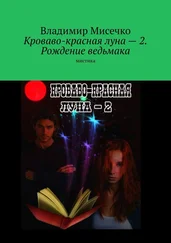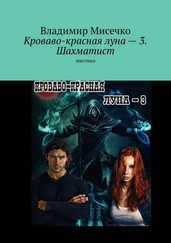В решении этой задачи большая роль отводилась Народному комиссариату просвещения, в рамках которого 12 ноября 1920 года был образован Главный политико–просветительный комитет Республики. Бессменным председателем комитета до 1930 года была Н.К. Крупская. Известный историк Ю.В. Готье однажды был приглашен на заседание «горилл», после чего сделал запись в своем дневнике:
«Я был водим в Комиссариат Народного просвещения на заседание коллегии комиссариата… На заседании присутствовала Н.К. Крупская–Ульянова, без 5 минут русская императрица; я не ожидал видеть ее такой, какая она есть ― старая, страшная, с глупым лицом тупой фанатички, причем ее уродство подчеркивается ясно выраженной базедовой болезнью; остальные присутствовавшие были Познер, Шапиро, Маркс и другие представители господствовавшего племени…
Оказалось, что мне не нужно было вовсе приезжать. Я однако не раскаиваюсь, что потерял здесь время; картина убожества и неумения ничего сделать, разве что утопать в словах, была так ярка, что оставила во мне неизгладимое впечатление и убедила еще раз, что эти существа, имеющие от людей только образ, ничего создать не могут».
Надежда Константиновна, в молодости просвещавшая рабочих, нашла, наконец, себе занятие по душе. Утвержденная ею инструкция предписывала немедленно развернуть работу по очищению библиотек от «вредной литературы». Инструкция Крупской легла в основу секретной директивы Наркомпроса, подписанной в 1923 году.
Согласно ей изъятию и уничтожению подлежала литература «следующих «типов»: патриотическая, черносотенная, враждебная передовым идеям, религиозно–нравственная, историческая беллетристика, идеализирующая прошлое, проповедующая мещанскую мораль, сентиментальная, «бледная, не художественная», упадочного настроения, пошлая юмористика, «литература надрыва и упадочнического настроения», мистика, романы приключений и т. д.
Далее документ уточнял:
«Так как под эти рубрики можно подвести почти всю старую литературу, то Главполитпросвет вырабатывает примерные списки изымаемой литературы, которые в течение ближайшего времени будут периодически высылаться, чтобы места имели более конкретные представления о том, что допустимо в библиотеках… Списки эти примерные и потому отнюдь не будут исчерпывать всего, что надо изъять».
Лица, «виновные в сокрытии запасов книг», подлежали преданию суду.
В число авторов, мешающих «советскому строительству», первыми были зачислены все философы, историки, психологи, социологи, этики: Кант, Платон, Декарт, Ницше, Шопенгауэр, Спенсер, Соловьев, Мах. Все они заменялись марксизмом, аккумулировавшим в себе всю «сумму человеческих знаний». Следом были запрещены Лев Толстой и Достоевский, Лажечников и Загоскин, Дюма–отец и Майн Рид, Сенкевич и Аверченко… Вместо них подлежали распространению брошюры «Всемирный Октябрь» и «Уничтожайте вошь», портреты Маркса, Ленина, Троцкого, Свердлова.
Перефразируя изречение халифа Омара: «Зачем нужны библиотеки, если у нас есть «Капитал»?» (Когда Ленин впал в маразм и решил заняться разведением кроликов, книги пришлось выписывать из Германии.)
Подлежала уничтожению вся старая школа, по мнению Ленина,
«вырабатывавшая прислужников, необходимых для капиталистов»,
и старые вузы, которые нарком Луначарский объявил «кучей мусора».
В педагогике и в образовании на первое место выдвигались задачи формирования у подрастающего поколения классового сознания, чуть ли не с пеленок. В 20–е годы от воспитателей детских садов и преподавателей школ требовали проведения «правильной классовой политики» и воспитания у детей ненависти к «социально чуждым элементам». Трех–четырехлетним малышам разъясняли сущность классовой борьбы и реакционность буржуазии.
В школах комиссии проверяли, у всех ли учеников собраны подписки о непосещении церкви, как проходит антирождественская кампания, проводится ли «индивидуальная обработка ребят, отрицательно настроенных со стороны общественно–политической». Шкрабам (учителей переименовали в «школьных работников»), воспитанным в дореволюционную эпоху, ставилось в вину чрезмерное «увлечение общепросветительными задачами в ущерб интересам пролетариата». Высказывания вроде того, что «учитель должен учить», расценивались как вражеская диверсия и «кулацкая» пропаганда. От учителей требовалось не обучать, а «идеологически воспитывать у учащихся вражду к чуждому им классу».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
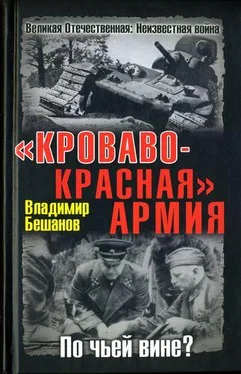
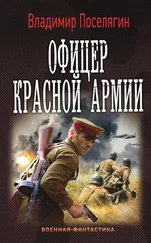
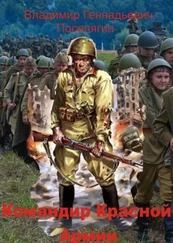
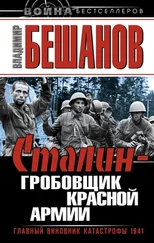

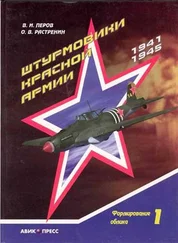
![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии [litres]](/books/428610/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-litres-thumb.webp)
![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии - Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/430810/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi-thumb.webp)