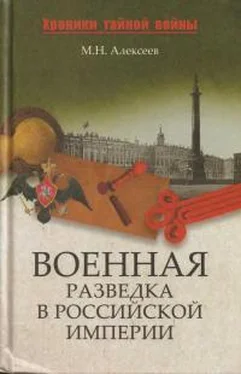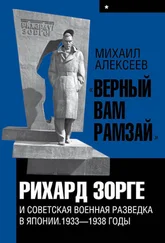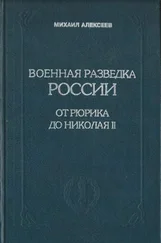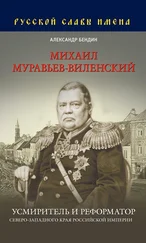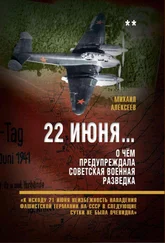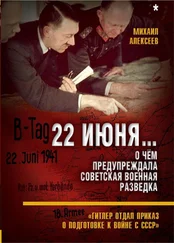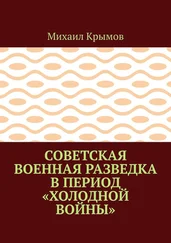С объявлением 1 ноября 1876 г. частичной мобилизация русской армии стал формироваться Полевой штаб Действующей армии. На следующий день после объявления частичной мобилизации полковник Н.Д. Артамонов (исполнял должность штаб-офицера, заведовавшего обучавшимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами) был назначен штаб-офицером над вожатыми. Это, как и многие другие назначения (не назначения), состоялось только благодаря личному решению назначенного главнокомандующим Дунайской армией великого князя Николая Николаевича. Полковника Артамонова великий князь знал как специалиста по Европейской Турции, неоднократно бывавшего на предполагаемом театре военных действий. К организации разведки полковник Артамонов до сих пор не имел никакого отношения, и даже Николаевскую академию Генерального штаба Артамонов закончил по отделению геодезии. Тем не менее Николай Дмитриевич проявил недюжинные стратегические способности, что не могло быть не замечено великим князем. Накануне назначения на должность Н.Д. Артамонов и Г.И. Бобриков [129]были приглашены к Николаю Николаевичу, который очень внимательно выслушал их об обстановке на Балканском полуострове, о тамошнем климате и состоянии дорог.
Вот что о своем новом и неожиданном назначении писал сам Артамонов много лет спустя : «освещать и разъяснять ту темную, всегда загадочную обстановку; в которой находится обыкновенно действующая армия по отношению к неприятелю и облегчать деятельность самой армии, особенно в стране неприятельской, таковы по требованию закона (приказа Военного министра. — Примеч. авт.) действительно трудные, ответственные задачи, которые штаб-офицер над вожатыми должен разрешить своею деятельностью» (РГВИА. Ф. 485. On. 1. Д. 1162. Л.1).
«Всеми возможными путями». Первое, что сделал в первый же день своего назначения штаб-офицер над вожатыми полковник Артамонов — рапортом начальнику Полевого штаба А.А. Непокойчицкому «испросил разрешение добыть из Константинополя немедленно, пока еще война не объявлена, описание и рисунки формы одежды офицеров и солдат разных корпусов и частей турецкой регулярной армии, чтобы познакомить с этими формами части русской Действующей армии». Оказывается, эта мысль посетила и другого разведчика, полковника П.Д. Паренсова [130], о котором еще пойдет речь. И он отправил еще «давным-давно» в Кишинев рисунки солдат и офицеров румынской и турецкой армий с предложением «напечатать их красками и раздать нашим войскам». Впоследствии Паренсов выяснил, что рисунки были получены в Кишиневе «еще зимой», но помощник начальника Полевого штаба генерал Левицкий не нашел нужным распространить их войсках, полагая, что война с турками не начнется (Паренсов П.Д. Из прошлого. 4.1. СПб., 1901. С. 236–237).
Накануне отъезда в Действующую армию Артамонов получил дислокацию регулярных турецких войск по состоянию на октябрь месяц 1876 г., составленную военным агентом в Константинополе Генерального штаба полковником А.С. Зеленым. Артамонову удалось ознакомиться и с донесением вице-консула Василевского в г. Тульча. Этого было достаточно, чтобы блестящий офицер составил перечень вопросов — о числе, передвижении турецких войск, которые должны были освещать находившиеся на территории Турции до разрыва дипломатических отношений многочисленные российские консулы и вице-консулы. Артамонова не посчитали нужным проинформировать, что такие вопросники существуют и на них с мест даются добросовестные ответы под всевидящим оком посла в Константинополе генерала Николая Павловича Игнатьева. Тем не менее «только с большим трудом и при содействии» начальника дипломатической канцелярии при Главнокомандующем Действующей армией М.А. Хитрово полковнику Артамонову «удалось выхлопотать о посылке каждому консулу по 500 рублей кредитных на расходы по сбору сведений о неприятеле». Первые донесения о вероятном противнике были направлены из Галаца и Константинополя уже 21 ноября 1876 г.
Информация из Турции поступала во многие адресаты: в Канцелярию императора, дипломатическому агенту при штабе Полевой армии, в Азиатский дспар-тамент МИДа, в Военно-ученый комитет Главного штаба. И далеко не факт, что такие донесения доходили и до Артамонова, что, собственно, он сам вынужден был неоднократно констатировать.
Не так просто обстояло дело и с выпиской газет. Еще в начале ноября 1876 г. Артамонов составил список английских, французских, немецких и русских газет, которые желательно было получать, так как они также являлись «источником сведений о неприятеле». Однако каково же было удивление штаб-офицера над вожатыми, когда в выписке газет было отказано по тем соображениям, что в упомянутый список попали газеты, запрещенные цензурою для публики. На препирательства и объяснения, что именно во враждебных России газетах могли содержаться интересовавшие разведку сведения, ушло больше месяца.
Читать дальше