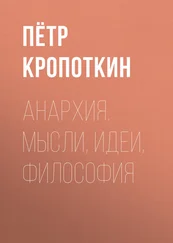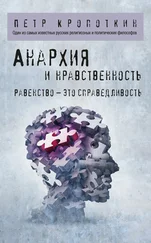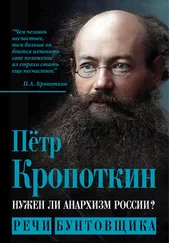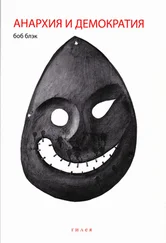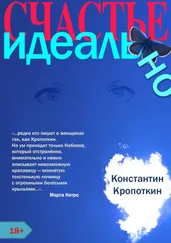1 ...6 7 8 10 11 12 ...236 К 1920 году он утверждал: «Приход реакции абсолютно неизбежен… А потому все, что мы можем сделать, это направить наши усилия, чтобы уменьшить ее рост и силу надвигающейся реакции».
Он предполагал, что реакционная деспотия государства продлится меньше полувека. Впрочем, если вести отсчет от расцвета сверхдержавы СССР в конце 1930-х годов, то и этот прогноз Кропоткина выглядит сбывчивым. Так же как его предположение, что в будущем возможны более жестокие и кровавые войны. Однако надо не восхвалять пророческий дар великого ученого и человека, а постараться понять, почему он приходил к верным выводам.
Прежде всего он стремился постичь правду и ничего кроме правды. У него напрочь отсутствовали какие-либо партийные или групповые интересы. Но дело не только в этом. В отличие от подавляющего большинства теоретиков, он старался учитывать роль научно-технического прогресса и законов земной природа в развитии общества, имея в виду законы не столько экологические, о которых ныне говорится немало, сколько нравственные (истоки последних, как эволюционист, он видел в биологической природе человека и социальном поведении высших животных).
В середине XIX века, когда он твердо уверовал в необходимость объединения трудящихся в борьбе за социальную справедливость, огромную популярность стали приобретать идеи социо-дарвинистов, утверждавших, будто повсюду и всегда идет жестокая борьба за жизнь: биологическая конкуренция среди животных, экономическая — среди людей. Победители — самые приспособленные, самые удачливые и активные индивидуумы. Это стало, по словам Кропоткина, своеобразным догматом, религией буржуазного общества. Вопреки этому, «необходимо было показать преобладающую роль, которую играют общительные привычки в жизни природы и в прогрессивной эволюции как животных видов, так равно и человеческих существ. Надо было доказать, что они дают животным лучшую охрану против их врагов, что они облегчают им добывание пищи… и увеличивают предел жизненности и, вследствие этого, — облегчают развитие умственных способностей, что они дали людям… возможность выработать те учреждения, которые помогли человечеству выжить в суровой борьбе с природой и совершенствоваться, невзирая на все превратности истории».
Он выполнил свою задачу, написав книгу «Взаимная помощь как фактор эволюции». Это — не опровержение, а дальнейшее развитие идей Дарвина, причем в традициях русской биологической науки. Еще в 1860 году ботаник А. Н. Бекетов высказал идею эволюции и единства природы Земли; он считал борьбу за существование частным случаем «взаимодействия сил», гармонии в природе. Позже о законе взаимной помощи и о его роли в эволюции писал русский зоолог К. Ф. Кеслер, прямым преемником которого и стал Кропоткин.
Конечно, не все в этой работе Петра Алексеевича выглядит одинаково убедительно. Однако научная значимость его работы сохраняется до наших дней.
Экологическое единство живого вещества не вызывает сомнений — это эмпирическое обобщение. Сам факт этого единства, сохраняющегося многие миллионы лет, показывает, что взаимное объединение, взаимопомощь всегда проявлялись в биосфере более властно и эффективно, чем взаимная вражда и разобщенность. И по-прежнему актуальны слова Кропоткина: «Общество… зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном, — человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полуосознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех…»
Он не удовлетворился этим обобщающим трудом. Мысль его устремлялась к более обстоятельным разработкам темы. Он принялся писать историю Великой французской революции (1789-1793). Друзья предупреждали: тема трудна даже для профессионала-историка, ей посвящены сотни исследований крупных ученых… Нет, Кропоткина трудности никогда не останавливали. В 1909 году это его историческое исследование вышло на английском, французском, немецком языках, а позже было издано во многих странах мира. И вновь он исходил из предвзятой идеи: в человеческом обществе идет извечная борьба двух течений «народного и начальнического». В народе постоянно вырабатываются формы взаимопомощи, единения. Этому противостоят люди, стремящиеся к власти, господству над народом, добивающиеся личных привилегий за счет других.
Было бы ошибкой считать, будто Кропоткин просто подбирал материалы для обоснования своих идей. Он всегда оставался прежде всего именно исследователем; факты были для него той самой правдой, от которой он никогда не отступал, за торжество которой сражался. Он шаг за шагом, основательно анализирует ход событий, делая краткие и точные выводы. «Восстание крестьян с целью уничтожения феодальных прав и возврата общинных земель… — это самая сущность, истинная основа Великой революции». «Миром управляют идеи гораздо больше, чем это думают, а великие идеи, выраженные в решительной форме, всегда имели влияние на умы». «Между изданным законом и его практическим проведением в жизнь лежит еще целая пропасть». «Народ всегда чувствует истинное положение дел, даже тогда, когда он не может ни правильно его выразить, ни обосновать предчувствия доводами…» Все это — не громкие высказывания, а именно выводы, к которым Кропоткин подводит читателя, рассказывая о тех или иных эпизодах Великой французской революции. Он не только восхищался «верным инстинктом» народа, но и раскрыл источники и движущие силы этого «инстинкта».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
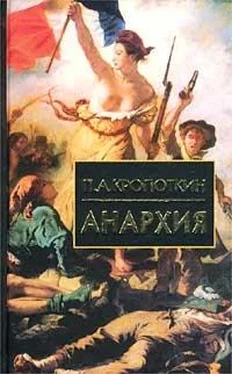
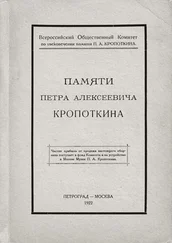

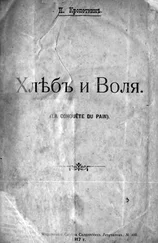
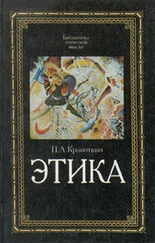
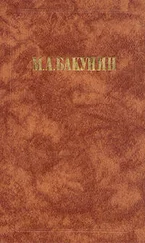
![Петр Кропоткин - Анархия и нравственность [сборник]](/books/394932/petr-kropotkin-anarhiya-i-nravstvennost-sbornik-thumb.webp)