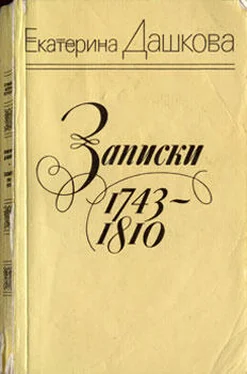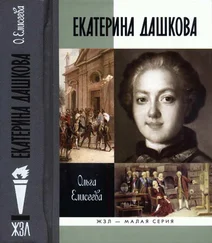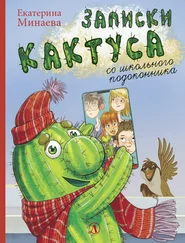Я отвечала ему довольно вежливо, но саркастически сказала, что среди многих глупостей, наполняющих мою голову, я никогда не думала с энтузиазмом о привилегиях высокого рода. Если бы я обладала хотя бы некоторой долей красноречия, так щедро расточаемого его превосходительством, то всегда отдала бы полное преимущество благовоспитанности, а как непременному ее последствию — доброму характеру из всех блестящих, но ломких предметов детского честолюбия.
Сыну я ответила в немногих словах. «Когда ваш отец, — писала я, — намерен был жениться на графине Катерине Воронцовой, он полетел на почтовых в Москву, чтобы испросить согласия у своей матери. Вы уже обвенчаны; мне это известно давно; я знаю также и то, что моя свекровь не более меня заслуживала иметь друга в своем сыне».
Томительная тоска продолжала тяготить меня; я совершенно потеряла аппетит и видимо угасала. В домашнем одиночестве я считала себя одинокой в целом мире, потеряв утешение тех, чья любовь была единственной путеводной звездой на пути моих прежних невзгод.
К зиме, почувствовав себя лучше в физическом отношении, я опять обратилась к своей академической деятельности: продолжала заниматься словарем, предприняла новый труд, который академия сочла исключительно моей заслугой, то есть точное определение всех слов, относящихся к политике, правлению и нравственности.
Эта последняя работа, для меня вовсе нелегкая, потребовала много внимания и каждый день служила мне громоотводом печальных дум, осаждавших меня. Я навсегда рассталась со светом, исключая мои свидания с императрицей один или два раза в неделю, в самом небольшом и близком ее кругу.
Весной я удалилась на дачу моего отца, отстоявшую от города дальше, чем моя собственная. Здесь мое уединение никем не нарушалось; являлись немногие, но и тем отказывали. Все лето я провела в таком мучительном нравственном состоянии, что если и устояла против замыслов отчаяния, то обязана тем милости Провидения. Покинутая детьми, я считала свою жизнь бременем и пламенно желала сбросить его, если бы только явилась на помощь посторонняя рука, способная избавить меня от безнадежного существования. Это нравственное настроение продолжалось или лучше возросло на следующий год, когда я получила позволение осмотреть свои поместья 6под Москвой и в Белоруссии 7.
Прошлое, настоящее и будущее одинаково туманились перед мной, не было ни одной светлой точки, на которой бы могла остановиться мысль. Самые страшные видения фантазии овладевали мной. Я с трепетом вспоминаю, что в числе моих дум была мечта о самоубийстве. И если бы не освежала моей души религия, эта последняя опора в человеческом несчастье, последнее убежище для души, томимой отчаянием, я не могу поручиться за то, чем окончилась бы моя агония. В одном уверена, что ни убеждение в нелепости акта самоуничтожения, ни сила рассудка не могли спасти меня: я слишком страдала, чтобы слушаться разума, гордости или другого человеческого побуждения. Я искала, от всей души искала смерти, но не хотела принимать ее добровольно, от своей собственной руки. Только религия могла спасти меня.
В эту зиму я менее, чем обычно, страдала ревматизмом, развитию которого содействовало болотистое местоположение моей дачи. Я была в состоянии предпринимать прогулки в карете и по-прежнему два раза в неделю обедала с императрицей.
Следующий рассказ остался в моей памяти из наших разговоров за одним из этих обедов. Граф Брюс, дежурный генерал-адъютант, толкуя о храбрости, удивлялся отваге солдат, которые на его глазах всходили на стены одного города под самым жарким огнем. «Ничего нет удивительного, — сказала я. — Самый отчаянный дурак может на минуту быть храбрецом и пуститься в атаку, зная, что она скоро кончится. Притом, извините меня, граф, не в этом состоит истинная военная храбрость. Настоящее геройство заключается в полной самоотверженности и осознании всех опасностей и трудов, в готовности встретить их, в решимости одолеть. Если бы стали пилить какой-нибудь член вашего тела острым деревянным ножом, и вы вынесли бы боль терпеливо, я сочла бы вас более мужественным, чем тот воин, который неподвижно простоит несколько часов перед неприятелем».
Императрица поняла меня, но граф привел доказательство, не совсем ясное, и указал на самоубийство как образец храбрости. В продолжение дальнейшего разговора, когда я опровергала мнение Брюса, с особым воодушевлением, может быть, вследствие настроения моей собственной души, императрица ни на одну минуту не спускала с меня глаз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу