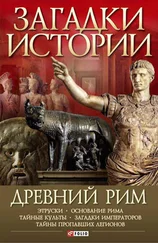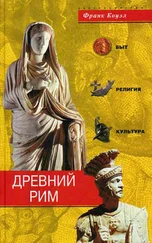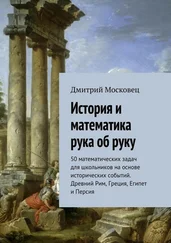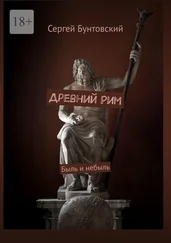Итак, деятельность Цезаря в период между написанием раннего и позднего «Писем» могла убедить автора этих произведений, что программа реформ, изложенная им в более раннем «Письме», не встретила положительного отклика. Чем объяснить такое расхождение? Быть может, суть дела заключается в различии подхода, в различии принципиальных установок «теоретика» Саллюстия и «практика» Цезаря?
На первый взгляд естественнее и соблазнительнее всего — и такие попытки неоднократно уже предпринимались — представить дело так, что «кабинетный мыслитель», теоретик Саллюстий в полном отрыве от окружающей обстановки и практики политической борьбы цеплялся за свой отживший, утопический «полисный идеал», а практический деятель Цезарь сознательно и целеустремленно создавал новое государственное устройство, новый государственный аппарат империи. Однако, нам кажется, подобный вывод был бы ничем не оправданной модернизацией. Недопустимо, впадая в телеологические соблазны и ретроспективные «предвидения», рассматривать деятельность Цезаря как сознательно направленную на создание империи. Этого нельзя делать хотя бы потому, что то понятие империи, которое сложилось, пожалуй, только ко времени Тацита и которым мы фактически оперируем и в наше время, никоим образом не могло возникнуть ни у Цезаря, ни у его современников. Утверждение о том, что Цезарь якобы стремился создать монархию эллинистического или какого–то особого и небывалого образца, есть не что иное, как историческая аберрация, как запоздалое и малоудачное «пророчество после событий».
Скорее всего, мы имеем дело с различными вариантами восстановления государства после потрясений гражданской войны. И Саллюстий и Цезарь руководствовались именно этой задачей, но с тою разницей, что перед первым она вставала сугубо теоретически и он выступал в роли консультанта–советчика, тогда как перед Цезарем эта же задача выдвигалась как насущная и практическая необходимость.
Несколько выше мы уже подчеркивали, что все законы и реформы Цезаря следует расценивать как меры, проводившиеся в порядке ответа на тот или иной вопрос, настоятельно выдвигавшийся текущими делами, злободневной обстановкой, насущными нуждами управления. Но значит ли это, что все реформы Цезаря имели лишь сугубо преходящее значение и, следовательно, не были мероприятиями длительной государственной важности, большого масштаба?
Конечно, это не так! Тут уже выступает на свет объективная и, как правило, не зависящая от сознательных устремлений сторона деятельности реформатора. Как это обычно и бывает, время и объективные условия дальнейшего развития отсеивают или сохраняют из «злободневно» возникших законов, реформ и т.п. те, которые оказываются наиболее соответствующими этому «дальнейшему развитию» и которые только таким путем и приобретают (в ходе десятилетий) объективную ценность и достаточно «масштабное» государственное значение.
Но неужели перед Цезарем не вставало вообще никаких общих задач, никакой общей цели, помимо чисто злободневных и текущих вопросов? Конечно, такая общая цель существовала, и она вырисовывалась не только перед умственным взором Цезаря. О ней знали все те, кого в той или иной степени волновали судьбы Римского государства. О ней говорил, в частности, Саллюстий (и Цицерон). Но вместо надуманной, ретроспективно привнесенной идеи «империи» это была совершенно конкретная задача восстановления государственного строя, до основания потрясенного годами гражданской войны. Конечно, взгляды Саллюстия и Цезаря на пути и методы решения этой задачи никак не совпадали. Мы в этом могли убедиться, сопоставляя «теоретические выкладки» Саллюстия с практической деятельностью Цезаря. Но мы могли убедиться и в другом: в правомерности именно такого сопоставления, а не в искусственном конструировании борьбы двух отвлеченных концепций — идеи полиса с идеей imperium Romanum.
В заключение остановимся кратко на более позднем «Письме к Цезарю». Оно интересует нас главным образом в плане сопоставления с уже рассмотренным выше ранним «Письмом».
Общая схема обоих «Писем» примерно одинакова. Однако по своему содержанию и даже по манере изложения они существенно отличаются друг от друга. Рисуя картину разложения римского общества в более позднем «Письме», Саллюстий говорит о непомерной роскоши и алчности, о развращенности юношества, об испорченности народа денежными и хлебными раздачами. Но главным образом в позднем «Письме» Саллюстий останавливается на ужасах междоусобной войны, описанию которых посвящена целиком глава четвертая. Саллюстий говорит здесь о тайных убийствах и преступлениях, о массовых избиениях, о гибели женщин и детей, о разрушении жилищ. Он гневно обрушивается на тех, кто в эти тяжелые дни, несмотря на все ужасы войны, проводит время в пирах и преступных наслаждениях.
Читать дальше