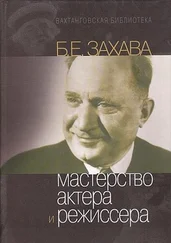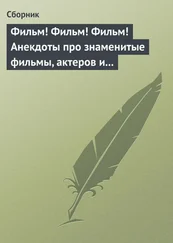Тем не менее, это не колеблет высокой оценки картины, ибо в ней поставлены важные и глубокие человеческие проблемы личной ответственности ученого за свое дело. И эстетическая сила фильма настолько значительно, что зритель зачастую и не замечает в нем "производственных" накладок.
Однако, наверное, подобных накладок и лучше не допускать. При прочих равных условиях, художественное произведение лишь выиграет, если в нем оптимально достоверно будет воплощен рассматриваемый жизненный материал. Напомню, что такой достоверности требует и эстетика документализма.
Говорят часто, что художника должны интересовать люди, а не машины. Верно. Скажу более. Вполне возможно и оправданно существование таких произведений, в которых фиксируется и анализируется, главным образом, общечеловеческое начала вы мыслях, чувствах и поступках людей, к какой бы профессии они не принадлежали. Собственно, такие произведения и преобладают абсолютно в современном искусстве, как отечественном, так и зарубежном. Но не лежит ли порою магистральный путь к "человеческой" сущности индивида через всестороннее познание круга его важнейших дел, повседневных занятий, которые накладывают нередко на него неизгладимый отпечаток, формируют его личность?
***
Представляется, что Губенко ощутил своего рода закрытость потенциальных своих героев, когда начал прикидывать возможность поставить фильм о современных физиках. Что скажешь о них нового после картины Михаила Ильича Ромма? Впрочем, я не знаю, сопоставлял ли Губенко свои замыслы с этой картиной, но ясно, что он честно и трезво сказал себе: жизнь физиков не мой предмет, не моя тема. А если, размышляет он вслух, споря и самим собой, и с неведомым нам оппонентом, профессиональные занятия человека вообще не являются предметом искусства?
"Говорят, что искусство вечно, так, может быть, и заниматься оно должно вещами так называемыми общечеловеческими? Но что же общечеловечно? Для меня сейчас самое важное измеряется тремя мерами. Первая: мера участия человека в жизни общества, государства - что я могу сделать за свою, в общем, довольно короткую жизнь, чтобы что-то улучшить? Вторая мера - это чувство долга в самом широком общественном смысле. И, наконец, третья: ответственность человека за себя, и за то, что он делает, и за то, что происходит вокруг".
Насколько искренен был молодой режиссер в публичных высказываниях об ответственности перед родиной и обществом? Слишком часто тогда, как и сейчас, произносилось красивых ритуальных слов на этот счет. Но Николаю Губенко верилось, хотя иногда точил маленький червь сомнения: может быть, стоило бы и воздержаться подчас от таких красивостей. Бесспорно одно. Ничего полностью себе нужного, важного в современной ему литературе Губенко никак не находил. И не без горечи констатировал: "К сожалению, я не беллетрист, не умею писать".
Пройдет совсем немного времени, и Губенко начнет пробовать свои силы и в литературе. И станет ставить фильмы по им самим написанным сценариям. Но это еще впереди. Пока же он выражает пожелание, чтобы "кто-нибудь написал такого героя, в ком выпукло, объемно воплотилась бы искомая истина... Такого героя я хотел бы сыграть. И чтобы этот герой проявлялся в активном действии, в драматически напряженном сюжете, а не текучке так называемого "дедраматизированного" экранного действия". Тут Губенко сделал выпад против модной одно время концепции так называемой дедраматизации, согласно которой совершенно не обязателен крепко сколоченный сюжет, а эстетическая структура фильма или пьесы может и даже должна носить рыхлый, расплывчатый характер.
Молодой режиссер против такой рыхлости, и он подтверждает сказанное им ранее в первом интервью журналу "Театр" свое неприятие "рефлектирующих героев" Губенко даже несколько дезавуирует свой дебютный фильм, заявляя, что не слишком для него органичен. "Вообще люблю кино стремительное, а вот первая работа - "Пришел солдат с фронта" - получилась эллегически-плавной...".
Губенко определяет и свое отношение к зрительской проблеме, которая тогда все сильнее стала волновать кинематографическую общественность. Как раз в 60-70-е годы кардинально изменилась культурная ситуация в развитых капиталистических странах. Под давлением телевидения и ряда других факторов западный кинематограф катастрофически теряет зрителя. Зарубежные критики и социологи с тревогой заговорили об остром кризисе кино. До нас, в полном своем выражении, он дойдет через пятнадцать-двадцать лет, и не завершится по сей день, когда в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских стран этот кризис будет практически преодолен.
Читать дальше