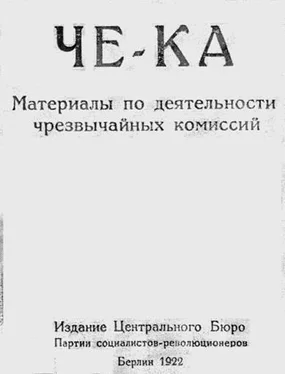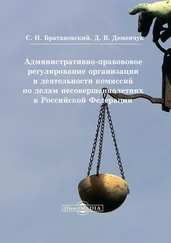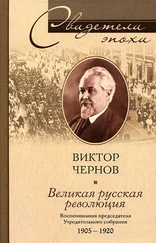Медленно, медленно тянется зимняя ночь. Привернутая в полусвет керосиновая лампа тихо мигает. Не спится и от холода и от ожиданий, всегда тревожных. Чутко прислушиваешься к разговору в коридоре, к шагам на дворе за окном.
Эти тюремщики, что вот только сейчас грубо и с остервенением раздевали заключенного, разбрасывали его вещи и смеялись грубой, пьяной ругани начальника, теперь опять продолжают мирно слушать прерванную сказку. Коммунистическое начальство ушло. Сами они не пойдут беспокоить заключенных. Только порой мальчишка-коммунист пробежит по коридору, погреметь замками — попужать.
И так изо дня в день, из месяца в месяц. И все это творилось в тюрьме Губ. Ч. К. ее непосредственными и высшими агентами. Все факты имели место до запроса о пытках. Начальник тюрьмы Дрожников и до сих пор продолжает свои издевательства над заключенными.
Саратов, Сентябрь, 1921 год.
С. Л. Н.
С Кубанской чрезвычайкой я хорошо знаком по личному опыту. При одном из очередных арестов социалистов, живущих на Кубани, я был арестован и доставлен в участок милиции города Екатеринодара.
При моем входе в помещение участка сидевший дежурный чиновник восточного типа, очевидно, счел меня по внешности за какое либо начальство, почтительно встал, не менее почтительно поклонился, заискивающе улыбаясь; но картина резко изменилась, когда приведший меня милиционер заявил, что я — арестованный.
— Садысь, — грубо, начальническим тоном, указывая на стул, важно проговорило начальство, не менее важно вновь усаживаясь в кресло.
Я с любопытством начал было рассматривать довольно тесное и грязное помещение милиции, публику, несмело толпившуюся здесь в ожидании разрешений всевозможного рода нужд; мысленно сравнивал все это с прежней полицией, — как дверь с шумом распахнулась, в участок быстро вошел высокого роста, в папахе набекрень, в красной черкеске, в щегольских сапогах, вооруженный почти до зубов человек, оказавшийся впоследствии начальником милиции Колесниковым. Начальнически небрежный взгляд скользнул по мне, затем начальство круто, по военному сделало полуоборот к дежурному, и громко раздалась команда:
— Усиленный караул!.. Подвал!.. Живо!..
Точно из под земли выросло шесть вооруженных милиционеров, тесным кольцом окружили меня, вывели во двор и ввели в подвал. Яркие лучи южного осеннего солнца сменились слабым мерцанием электричества, в лицо пахнули спертым подвальным запахом, плесенью, сыростью; щелкнул железный засов, лязгнуло ржавое железо, и я был впихнут в небольшой сырой, абсолютно темный каменный склеп. Не ожидая ничего подобного, я сначала опешил, растерялся, а потом нервно зашагал по каменному полу склепа, чутко прислушиваясь к глухому сдавленному топоту собственных шагов. Кроме меня в подвале оказался какой-то армянин. Он справился, не по «спекулянтскому» ли я делу и убедившись, что нет, опять забился в свой угол, где и уселся, по восточному, на корточках.
Медленно, тягуче тянулось время. Чувствовалось, что уже давно свечерело. В склепе сделалось чрезвычайно холодно. Легкая сорочка и накинутый на плечи пыльник плохо согревали мои застывшие члены. Зубы стучали от холода. Уже казалось, я сижу целую вечность, как в коридоре раздался топот ног, лязгнул засов двери, задрожал слабый свет фонаря, прорезывая густую холодную тень склепа, вошедшие четыре милиционера молча подошли к быстро вскочившему на ноги армянину, и началась самая дикая безобразная расправа. Армянина били кулаками, пинками, шашкой. Сначала несчастный стонал, умолял, затем совсем умолк, И только глухие удары по упругому телу, площадная брань милиционеров нарушали зловещую тишину могильного склепа.
Я инстинктивно, из чувства самосохранения отскочил к противоположному углу. В висках у меня болезненно стучало. Как утопающий за соломинку, хватался я за все, что могло меня защитить, и тут только я почувствовал всю бездонную глубину моей беспомощности по отношению к палачам. Ничего не соображая, я сначала приготовился к защите, однако безумие такой мысли было слишком очевидным. Злоба, отчаянная злоба и презрение к палачам быстро сменили инстинкт самосохранения. Машинально я сорвал с глаз золотое пенснэ и также машинально сунул в какой-то карман. Под влиянием неведомого мне чувства я выступил вперед и превратился в библейский соляной столб, решив не шевельнуть пальцем, не издать ни одного звука. И только мысли густым роем болезненно кружились в моем раскаленном мозгу. Точно на кинематографической ленте промелькнула предо мною вся моя далеко неприглядная и нерадостная жизнь, полная лишений, нищеты и громадного упорного труда.
Читать дальше