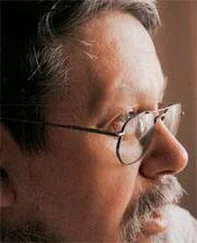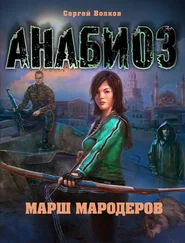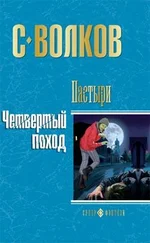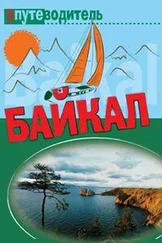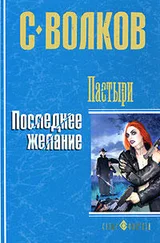Клюнув пятнадцать лет назад на подобные призывы и утратив половину территории и потенциала, новая Россия, конечно, ничего такого не получила, но, объясняют, — это потому, что не была достаточно последовательна, и все еще слишком велика и заражена «имперскими амбициями». Вождям РФ, особенно в связи с событиями на Кавказе, в качестве примера для подражания неизменно подсовывается де Голль, якобы укрепивший авторитет Франции, а на самом деле вбивший последний гвоздь в гроб ее величия. В действительности-то авторитет страны определяется не тем, может ли она иногда кого-то «ослушаться», а тем, «слушаются» ли ее.
Утрата статуса великой державы в Англии и Франции мирно привела к тому же результату, что был насильственно осуществлен после 1945 г. в Германии — психологическому слому в сознании служилого слоя страны и фактической его ликвидации как такового. Ибо если офицер (чиновник) великой державы есть сопричастник великого дела (с соответствующим самосознанием и психологией), то в «нормальной европейской стране» это всего лишь клерк, которому все равно — что носить погоны, что холодильниками торговать. Процесс едва ли обратим: с утратой слоя носителей «державного» сознания страна навсегда лишится и возможности вернуть прежний статус.
Так что уж если искать примеры для подражания непременно вне собственной истории, то не лучше ли «равняться» все-таки не на слугу, а на господина, не на Европу, а на США?. В странах, на деле остающихся великими державами, государственная власть крепка, а высшие лица в своих решениях не зависят и не принимают во внимание мнения «властителей дум» в виде каких-нибудь «левых интеллектуалов» (как в той же Франции); хорошо известно, что в США профессура и «культурные круги» — почти сплошь очень левые, но никто не дает им проводить социалистические эксперименты в экономике. Господствующий маразм «политкорректности» не переходит там, как в Европе, на государственный уровень, а преступников-изуверов казнят, а не носятся с ними как с «жертвами социальных обстоятельств». Другую внутреннюю политику страна, желающая оставаться великой, и не может себе позволить.
Не случайно выход США в последнее десятилетие на исключительное положение в мире сопровождался волной протестантского фундаментализма (Буш откровенно опирался на т. н. «консервативные» настроения), а в Европе храмы существуют в основном для японских туристов. Не удивительно, что после «рокового сентября» в США наплевали на «презумпции» и «права» целых стран, предпочтя меры по реальной безопасности, а в Европе после взрывов, напротив, решили смехотворным образом «подлизаться» к террористам, и именовать их не этим словом («вызывающим слишком негативные эмоции»), а «более нейтрально» — «бомбистами».
Так что России, если она хочет обрести достойное место в мире, едва ли следует брать на вооружение современные «европейские ценности». А вот если бы в «нормальную европейскую страну» превратились бы США — это было бы замечательно.
2006 г.
Волков С. В. Русский офицерский корпус. М., 1993, С. 273.
Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. М., 1979, С. 44.
Волков С. В. На углях великого пожара. М., 1990, С. 34–35.
В т. ч. 1645 офицеров Отдельного корпуса пограничной стражи, 997 Отдельного корпуса жандармов и примерно 2,5 тыс. флота.
Точнее — 71298, в т. ч. 208 генералов, 3368 штаб — и 67772 обер-офицера, из последних 37392 прапорщика. См.: Россия в мировой войне 1914–1918 гг. В цифрах. М., 1925, С. 31.
Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917–1920 гг., С. 28
Иногда округленно численность офицерского корпуса оценивается в 300 тыс. ( Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1918–1920 годов, Т. 1, Париж, 1962, С. 20, 124; Елисеев Ф. И. Лабинцы и последние дни на Кубани // Вестник первопоходника, № 43, С. 28). Встречаются мнения о 320 ( Еленевский А. Военные училища в Сибири // Военная Быль, № 61, С. 26), 400 ( Сербин Ю. В. ген. В. Л. Покровский // Вестник первопоходника, № 25, С. 9), и даже 500 тыс. офицеров ( Николаев К. Н. Первый Кубанский поход // Вестник первопоходника, № 29, С. 24; Зиновьев Г. Е. Армия и народ: Советская власть и офицерство. Пг., 1920, С. 12), но, либо в этом случае имеется в виду численность с военными чиновниками и врачами, либо это просто недоразумение. Примерно к таким же выводам приходит А. Зайцов; исходя из того, что на 1 мая 1917 г. в Действующей армии состояло налицо 136,6 и по списку 202,2 тыс. офицеров, следовательно, в тылу еще по крайней мере 37 тыс. (при том же соотношении 1:50 солдат), плюс 13 тыс. в плену на август 1918 г. и 40, 5 тыс. раненых, контуженных и отравленных газами, он определяет минимальную численность офицеров в 200, а более реальную — в 250 тысяч ( Зайцов А. А. 1918 год. Гельсингфорс, 1934, С. 183). Цифру 250 тыс. называет и Н. Н. Головин ( Головин Н. Н. Российская контрреволюция. кн. 1. Ревель, 1937, С. 85). Эту же цифру принимает и А. Г. Кавтарадзе ( Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты, С. 28), причем не включает сюда не вернувшихся к тому времени в строй (в т. ч. и пленных). В советской литературе приводятся цифры 240 ( Спирин Л. М. В. И. Ленин и создание советских командных кадров // Военно-исторический журнал, 1965, № 4, С. 11) и 275–280 тысяч ( Буравченков А. А. Офицерский корпус русской армии накануне Октябрьской революции // Интеллигенция и революция, XX век. М., 1985, С. 147).
Читать дальше