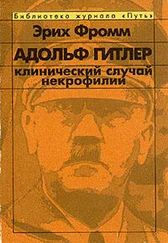— Самое время покурить, Цыпленок! Наша артиллерия проснулась.
Блондин прислонился спиной к стволу дерева, снял каску, провел рукавом по лицу и волосам и глубоко вздохнул. Эрнст протянул ему прикуренную сигарету, кривя лицо при каждой пулеметной очереди, как будто желая сказать: «Не так громко и не так поспешно! Куда русским деваться? Или под заградительный огонь, или на ваш прицел!»
Блондин курил, глубоко затягиваясь, и опять притянул верхнюю губу к носу: «Минометчики просто удрали или вместе с пехотой должны были бежать на нашу балку? Странно, эти штуки стоят здесь, как будто их забыли, при том, что этот холм — идеальная огневая позиция. Они бы здесь легко могли сдерживать нашу атаку несколько часов». Он покачал головой: «Непонятно, полные идиоты. Бежали как пьяные на балку, вместо того чтобы здесь спокойно ждать, пока об этот холм не разобьем башку. Это же любому ясно. У них глупости еще больше, чем у нас, а люди все равно не играют никакой роли, у них же их много».
Голос командира взвода оторвал его от размышлений:
— Это вы первым оказались на минометной позиции? Хорошо. Это — подвиг.
Блондин не знал, что с ним случилось, он стоял, совершенно растерявшись, и только твердил:
— Так точно, унтерштурмфюрер!
Командир взвода сдвинул каску на затылок и сказал:
— Достаточно, парни! Мы окапываемся в предполье, а на холме располагается взвод тяжелого оружия и противотанковые пушки.
Немецкая артиллерия выпустила далеко в поле еще пару серий снарядов и замолчала.
Земля была сухой. Ее поверхность была твердой, как цемент.
Гренадеры ругались. Ханс погонял их при окапывании, как надсмотрщик рабов. Только Эрнст улыбался. Когда Блондин подколол его, чему он так по-свински глупо улыбается при такой работе, тот ответил, что знает свое дело. Когда окопы были готовы, мюнхенец улыбнулся еще шире:
— Противотанковые пушки, Цыпленок. Если их ставят наверх, то дальше мы не пойдем. Наоборот, мы будем чего-то ждать. А кроме того, меня радует вот это. — И он показал лопатой на Ханса, определившего себе место и начавшего рыть окоп. — То, что ему придется рыть глубже всех, так как он самый длинный.
«Типичный оптимист, — вздохнул Блондин. — Когда он в Лихтерфельде должен был идти на дополнительные занятия, то радовался, что ему удалось не дать инструктору сходить в увольнение».
Вечер был душным.
Солдаты сидели или лежали в своих окопах. Ханс ушел неизвестно куда, наверное, к командиру роты. Куно и Камбала чистили пулеметы, разговаривали или спорили. Петер чистил затвор тщательно, серьезно, сосредоточенно. Пауль и Йонг спали. Эрнст закусывал, а Блондин наблюдал за ним. На самом деле он больше слышал, чем видел, и обрадовался, когда Эрнст спрятал консервную банку, убрал хлеб, вытер о траву свой нож и, щелкая языком, стал ковыряться в зубах.
— Ты что, заболел?
— Почему?
— Не ешь ничего! Может, сигарету хочешь, по крайней мере?
«Где у меня еще были сигареты из дома? Куда я их запихнул? А вот, есть еще несколько штук».
— Огоньку не дашь?
Эрнст нагнулся поглубже в окопе, чтобы прикурить сигарету. Они курили «в кулак», и, пока некоторое время не разговаривали, оказалось, что Эрнст ждет ответа.
— Что ты спросил, Эрнст?
— Не заболел ли ты. Есть не хочешь и при этом атакуешь, как сорвиголова, просто самоубийца! Хотя командир взвода думает, что ты герой, и, может быть, за это получишь орден. Но я не хочу бегать за героем, чтобы защищать его от русских.
Когда он переходит с диалекта на хохдойч или по крайней мере пытается, то это — серьезно. И Блондин это знает. Он сильно затянулся и пробормотал:
— Нервы сдали. Все из-за проклятых глаз.
— Глаз? — Эрнст растерялся. — Я не ослышался? Глаз?
— Да, глаз! Я хотел от них убежать! Просто убежать от глаз!
— Вот это да! Цыпленок! Убежать от глаз! Теперь я понимаю, что у тебя действительно сдали нервы. Глаза тебе помешали. Если бы не я, то тебе была бы крышка.
— Смотри, чтобы у тебя вместо ордена на героической груди не оказался номерок пациента психушки. Это же надо… глаза…
Они замолчали, пока тихий храп не заставил Блондина улыбнуться. «Он воспринимает мою почти смерть очень невозмутимо», — подумал Блондин. Он прислонился к стене своего окопа и стал наблюдать за огоньком своей сигареты, ярким и красным, когда он затягивался, огненным кружком, становящимся все уже и медленно вгрызающимся в бумагу. Он нюхал дым, и это было как раньше, как дома в первые вечерние часы: спокойствие, пребывание с самим собой, огоньком сигареты и музыкой: «Ветер пожаловался мне», «Она не хочет ни цветов, ни шоколада», «Что говорил ты мне о любви и верности».
Читать дальше