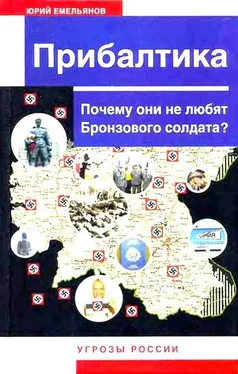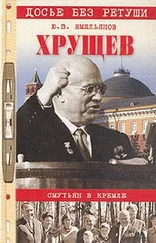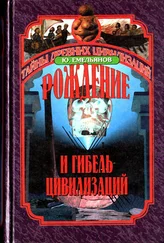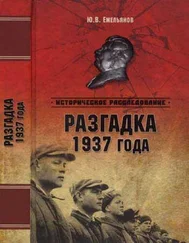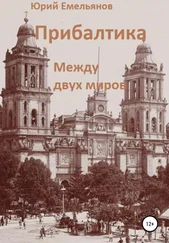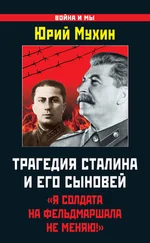В 1920 году латвийский журнал «Экономисте» писал: «В настоящее время мы вынуждены изыскивать продукты сельского и лесного хозяйства в сыром и обработанном виде, пригодные для вывоза за границу. Среди этих продуктов лен и древесина в ближайшем будущем займут основное место».
Варславан замечал: «Статистическое управление Латвии стремилось по возможности завысить показатели роста удельного веса готовой продукции в экспорте. Если в 1927 году спичечная соломка учитывалась как полуфабрикат, то в 1929 году — уже как готовая продукция. Таким же образом учитывались дощечки для ящиков и бочарная клепка, полуфабрикаты фанеры, проволоки и др.». В то время как до 1917 года рижские заводы производили деревянные изделия из лесопродуктов, журнал «Экономисте» подчеркивал в апреле 1920 года, что теперь «латвийская деревоперерабатывающая промышленность ограничивается только распиловкой леса в экспортный товар, а дальнейшая обработка древесины происходит в весьма незначительных размерах — в пределах, обеспечивающих только местную потребность». Рижские лесопильные фабрики простаивали.
Большие надежды в независимой Латвии возлагали на экспорт льна. В мае 1920 года журнал «Экономисте» писал: «В настоящее время трудно использовать лес, поэтому на первое место становится использование льна». Для этих соображений были известные основания. В 1909–1913 годах на Латвию приходилось 16,3 % мировых посевов льна и 13,3 % производства льноволокна. Представитель Латвии на Парижской мирной конференции Я. Сескис писал 27 августа 1919 года министру иностранных дел Латвии Мейеровицу: «В особенности следует экономить лен, который здесь, на Западе, ценится, по-видимому, наравне с золотом». Сескис предлагал использовать состояние войны с Советской Россией для того, чтобы «захватить в пограничных с Латвией районах России запасы льноволокна, которые можно было бы реализовать на Западе, получив в обмен вооружение».
Министр финансов Латвии Р. Каллиенс заявлял: «Лен — это основа государственного хозяйства Латвии, поэтому делается все возможное, чтобы восстановить и расширить площади подо льном, которые в вихре войны значительно уменьшились». Эти усилия принесли свои плоды. В 1920–1923 годах Латвия заняла 4-е место в мире после РСФСР по производству льна. В 1921–1929 годах на долю Латвии приходилось от 9 до 11,5 % посевных площадей мира, занятых под льном. В те же годы на Латвию приходилось около 8 % мирового сбора льноволокна. В 1920 году 66 % латвийского сырья и полуфабрикатов для текстильной промышленности направлялось в Англию. Из льноволокна, ввозимого в Англию, 31 % приходился на Латвию.
Однако зависимость от экспорта льна поставила экономику Латвии в уязвимое положение. В 1921 году произошло падение цен на лен и сокращение его закупок. В 1922–1923 годах внешние закупки льна увеличились и наблюдался рост льнообрабатывающей промышленности в Латвии. Но в 1924–1929 годах экспорт льна в Великобританию неуклонно сокращался.
Как отмечал Варславан, «Латвия, имея возможность продавать льноволокно в другие страны по более высоким средним ценам, все же поддерживала устойчивый удельный вес экспорта в Англию сырья и полуфабрикатов для текстильной промышленности. В этом находило отражение неравноправие экономических отношений и зависимость буржуазной Латвии от Великобритании».
На Великобританию приходилось более 40 % латвийского экспорта сырья и полуфабрикатов, при этом значительное место занимали лесоматериалы. Большую долю в импорте Латвии занимало и сливочное масло, главным потребителем которого являлась Германия (78 %). Всего на долю Англии и Германии приходилось две трети экспорта Латвии. В то время как Англия главенствовала в латвийском экспорте, Германия доминировала в латвийском импорте.
После 1913 года существенно изменилась роль Прибалтики как транспортной артерии, связывавшей Россию с Западом. В 1913 году на латвийские порты приходилось 56,2 % внешнеторгового оборота России на Балтийском море. При этом 82 % стоимости товаров, вывозимых через эти порты, были произведены в России за пределами Латвии и лишь 18 % — в самой Латвии. После Первой мировой войны Латвия оказалась оторванной от России. Прежняя система хозяйства была нарушена, и транспорт Латвии работал с существенной недогрузкой. Если в 1913 году число судов, посещавших порты Латвии, составляло 5289 (их тоннаж был 3 591 195 тонн), то в 1929 году число таких судов было 3841, а их тоннаж составлял 1 872 790 тонн. Место России в морском транспорте Латвии заняла Англия, хотя Германия успешно конкурировала с «владычицей морей». Одновременно Германия играла активную роль в развитии железнодорожного транспорта через Прибалтику в РСФСР.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу