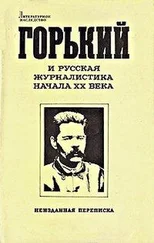Холодно рассчитанная жестокость и бесправие, возведенное в систему, являются методами и целью власти для подавления воли к сопротивлению через моральное унижение и лишение самого сознания человеческого достоинства. Это моральное уничтожение человека проводится по всему необъятному пространству СССР.
Нужно ознакомиться с трудом Иванова-Разумника, чтобы убедиться, что тюрьмы не могли сломать его волю и при всех обстоятельствах он оставался верным себе - человеком редкого благородства, который сохранил даже в "ежовские" времена свою полную духовную независимость.
Г. Янковский
{11}
ОТ АВТОРА
У каждой книги - своя судьба, даже тогда, когда она еще не книга, а только сырая рукопись. Судьба рукописи этой книги была весьма необычной: целый год лежала она закопанная в могиле, и если уцелела, то лишь благодаря стечению маловероятных случайностей.
Осенью 1933 года, после восьмимесячной одиночной камеры в Петербургском доме предварительного заключения, после кратковременной ссылки в Сибирь, попал я на трехлетнюю ссылку в Саратов, - на полную "свободу" (умеряемую ежемесячными семикратными явками в ГПУ), на полное безделье. Никакой работы найти не мог, да особенно и не искал ее: благодаря щедрой денежной помощи друга, жизнь была обеспечена, и я имел свободных 24 часа в сутки. Стал понемногу писать свои житейские и литературные воспоминания, исписал две толстые тетради, всего листов 15 печатных; дошел в них до начала девятисотых годов, до бурных лет нашей университетской жизни. Стал писать большую книгу "Письма без адресатов", собрание статей на разные темы. Писал и еще многое "в письменный стол", без надежды увидеть это в печати: я и до тюрьмы и ссылки был писателем, исключенным из литературы, а ссылка наложила печать окончательной отверженности.
Среди всех этих никчемных работ уделил время и тому "Юбилей", который теперь составляет главную часть настоящей книги: по свежей памяти записал все то, что случилось со мною в тюрьме, все свое "дело", за которое попал сперва в узилище, а потом и {12} в ссылку, все допросы следователей, весь быт тюремной жизни - "в назидание потомству":
То старина славна, то и деяние,
Старцам угрюмым на утешение,
Молодцам на поучение,
Всем на услышание...
Всем на услышание - хотя бы и через десятки лет: авось, рукопись эта сохранится и когда-нибудь узнают изумленные внуки, как в старину живали деды...
Знал, конечно, что очень рискую: если бы при новом обыске и аресте (а их всегда можно было ожидать) "Юбилей" попал в руки властей предержащих, то результатом была бы уже не ссылка, а концлагерь или изолятор. Поэтому старался припрятывать рукопись так, чтобы при предстоящем обыске, буде таковой последует, всемерно затруднить ее нахождение.
Но в Саратове ни нового обыска, ни нового ареста не последовало, и по окончании срока ссылки я в конце 1936 года благополучно увез свои рукописи на новое место жительства, в Каширу. В это время горизонт уже омрачался, наступали "ежовские времена", и держать "Юбилей" у себя становилось все более и более опасным. Я обратился к одному московскому другу, который, казалось, (а потом и оказалось), был вне возможных ударов "ежовщины", - с просьбой взять на хранение мою рукопись, содержание которой было ему совершенно неизвестно. Кстати заметить - о "Юбилее" я ни единой живой душе (кроме жены) не сказал ни единого слова; и этому московскому другу, согласившемуся приютить мою рукопись, я отвез ее в запечатанном конверте, сообщив только, что дорожу ею и не хотел бы, чтоб она пропала.
Друг взял конверт, - но времена были такие, что и он не рискнул держать у себя дома такое взрывчатое вещество, хотя и неизвестного ему {13} содержания. Он взял большую банку из-под консервов, уложил в нее конверт с рукописью, и ночью закопал банку в своем саду... Вот какие были времена и вот в каком унизительном страхе жили все мы в советском "раю".
И времена эти становились все более и более мрачными, а наши настроения все более и более напряженными: 1937 год показал нам такой размах террора, какого мы не испытывали и в годы военного коммунизма. Аресты шли не десятками и сотнями, а десятками и сотнями тысяч. Не было дома, не было семьи, не было знакомых, которые не оплакивали бы своих близких, невинных жертв дикого и безумного террора. Ведь надо было большевистской контрреволюции сравняться с французской революцией 1793 года! Да какое там сравняться! Не сравняться, а превзойти: детские цифры жертв робеспьеровского террора не идут ни в какое сравнение с числом жертв террора ежовско-сталинского. Запуганность людей дошла до предела, страх и трепет царили во всех домах.
Читать дальше