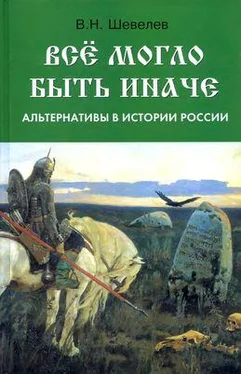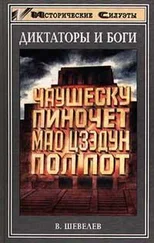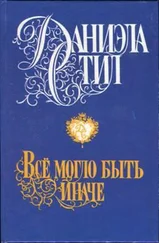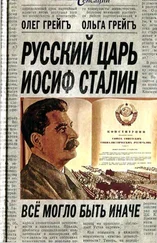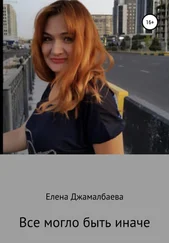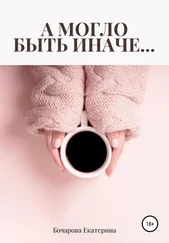Как и Суворов, Бунич в чем-то тенденциозен. Но приведенные им цифры близки имеющимся в официальных источниках. Вызывает сомнение лишь число наших воинов, перешедших на сторону противника. Хотя известно, что в феврале 1942 г. во вспомогательных и так называемых национальных частях Вермахта числилось 1,2 млн бывших советских военнослужащих. Вполне допустимо, что в сентябре 1941 г. их было 1,5 млн человек. Даже по данным исследования современных российских военных историков «Гриф секретности снят», безвозвратные потери Западного фронта за первые 17 дней войны составили 341 тыс. человек, из которых не менее 60 %, т. е. порядка 200 тыс. человек, оказалось в плену. Причем эти цифры вполне совпадают с немецкими сводками, в соответствии с которыми в ходе сражения в районе Минск — Белосток Вермахт захватил 288 тыс. военнопленных.
По материалам Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий лишь в течение лета 1941 г. число пленных красноармейцев достигло почти двух миллионов человек. Объяснить только военными причинами такую массовую сдачу в плен невозможно, особенно если учесть, что военные действия проходили на советской территории, летом, зачастую в лесистой местности, где при желании можно было легко укрыться и продолжать борьбу. Очевидно, что значительная часть советских солдат и офицеров сдавалась добровольно, не желая сражаться за режим и ожидая от немцев избавления России от большевистской власти [183] Конюшенко Е.И. Большевизм и Россия. К начертанию российской истории XX века // www.infoliolib. info/
.
Впрочем, военные действия на различных участках фронта разворачивались по-разному. Так, майор фон Кильманзег впоследствии утверждал, что нацистская пресса представила миру совершенно искаженную картину боевых действий сухопутных войск. О легких победах речи не было. Вне сомнения, сосредоточенные в приграничных районах советские войска оказались «застигнуты врасплох», «но отнюдь не собирались сдаваться». Лейтенант Гельмут Ритген свидетельствовал, что среди русских «в плен никто не сдавался, поэтому и пленных практически не было» [184] Кершоу Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных / пер. с англ. А.Уткина. — М.: Яуза— пресс, 2008.
.
По оценкам историка С. Веревкина, «в течение первых двух месяцев войны регулярная Красная Армия была практически полностью разгромлена, а сам Советский Союз оказался на грани полной военной катастрофы». И неизбежен вопрос: «Если мощнейшая современная регулярная армия, до зубов вооруженная современнейшим оружием, с первых дней войны начинает буквально распадаться, теряя пленными сотни и сотни тысяч, складывающиеся в миллионы человек, что же с ней происходит на самом деле?» [185] Веревкин С. Катастрофа лета 1941 г. — надежды народа на фоне распада армии // Великая Отечественная катастрофа II. 1941 год. Причины трагедии. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — С. 82–120.
.
Судя по всему, для Сталина Гитлер был действительно слепым орудием или «ледоколом», расчищающим дорогу в Европу для локомотива «мировой коммунистической революции». СССР был готов к мировой войне, но к войне наступательной. Красная Армия располагала на границе подавляющим численным преимуществом над противником. Внезапный удар Вермахта отдал в руки немцев огромные ресурсы: на советских тягачах, на советских боевых машинах, на советском горючем гитлеровцы входили в наши города.
Все сходится к тому, что два тоталитарных режима — сталинский и гитлеровский — не могли не столкнуться в борьбе за мировое господство.
Но почему это столкновение на первом этапе оказалось для нас столь губительным? Похоже, что действительно солдаты в массе своей не хотели защищать власть, поскольку она принесла народу столько бед — раскулачивание и расказачивание, десятки миллионов согнанных с родных мест и загнанных в сибирские леса, Великий голод. Многие из них как бы мстили за насилие и унижение, издевательства и обманутые надежды. К тому же С. Веревкин во многом прав, когда пишет, что война началась в стране, «армия которой представляла собой огромную массу запуганных и сбитых с толку безграмотных, аполитичных, люмпенизированных людей. К тому же еще и плохо обученных военному делу. Руководимую полуграмотными комдивами и комполками, совсем недавно бывшими всего лишь лейтенантами и старшими лейтенантами… Безынициативность и буквальное впадание в ступор советского командования в случае изменения боевой обстановки так и не было изжито им до конца войны» [186] Веревкин С. Катастрофа лета 1941 г. — надежды народа на фоне распада армии // Великая Отечественная катастрофа II. 1941 год. Причины трагедии. — М.: Яуза, Эксмо, 2007. — С. 82–120.
.
Читать дальше