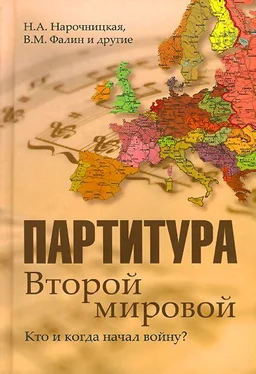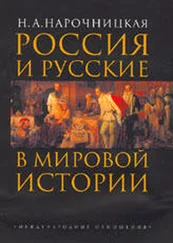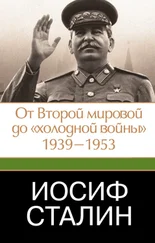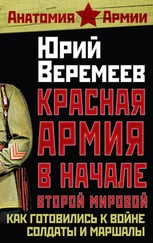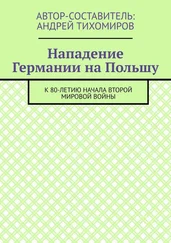22 августа Ж. Думенк заявил советской делегации, что он получил от своего правительства положительный ответ на «основной кардинальный вопрос» и полномочия «подписать военную конвенцию». Однако есть ли согласие со стороны Лондона, Варшавы и Бухареста, он сообщить не мог. Готовность Франции подписать военную конвенцию при маневрах Великобритании, рассматривавшей контакты с Советским Союзом как прикрытие собственных секретных переговоров с Германией, и при самоубийственной близорукости Польши ни к чему не привела.
Поскольку подписание конвенции срывалось, И. В. Сталин, дав вечером 21 августа согласие на прибытие в Москву И. Риббентропа, сделал выбор в пользу переговоров с Германией.
Естественен вопрос: насколько эффективным мог оказаться военный союз Лондона, Парижа и Москвы, если бы западные демократии и находившиеся в поле их влияния страны-лимитрофы проявили подлинную заинтересованность в создании системы коллективного отпора фашистской опасности?
Факты свидетельствуют, что при доброй воле всех прямых и косвенных участников московских переговоров гитлеровской агрессии был бы поставлен надежный заслон. Вооруженные силы трех стран в совокупности имели 311 дивизий, 11,7 тыс. самолетов, 15,4 тыс. танков, 9,6 тыс. тяжелых артиллерийских орудий. Блок Германии и Италии располагал вдвое меньшими силами: 168 дивизий, 7,7 тыс. самолетов, 8,4 тыс. танков, 4,35 тыс. тяжелых орудий [262] Захаров М. В. Указ. соч. С. 168
. Но шанс был упущен.
Неудача с формированием единого антифашистского фронта в Европе вынудила советское руководство, поставленное перед перспективой оказаться в международной изоляции, пойти на подписание пакта о ненападении с Германией.
Уже через неделю Гитлер, более всех выигравший от провала московских переговоров, напал на Польшу. Западные демократии, сея ветер, пожали бурю…
B.C. Макарчук
События сентября 1939 года в свете доктрины интертемпорального права и права на «самопомощь»
В современной практике международного права в большинстве случаев считается, что никто не может получать для себя выгоду из собственных противоправных действий, даже если эти действия повлекли за собой коренную смену обстоятельств [263] См.: П. 2 — в ст. 62 Венской конференции о праве договоров 1969 г.
. В то же время государство имеет право ссылаться на коренную смену обстоятельств, которые произошли в результате собственных действий, если последние являются правомерными [264] Аречага Э. Х. Современное международное право / Пер. с испан. М.: Прогресс, 1983. С. 123
.
Несмотря на то, что выше упомянутый документ вступил в силу через три десятилетия после исследуемых событий, даже на сегодняшний день нельзя не отметить два особо важных юридических факта, а именно:
1. Были ли противоправными, учитывая нормы de lege lata, пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 г. и сомнительный секретный протокол к нему?
2. Серьезно ли был обоснован так называемый Освободительный поход Красной армии 17 сентября 1939 г.?
От ответа на эти вопросы зависят правовые оценки значения Народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии, а также правовые обоснования вхождения бывших западных земель Второй Речи Посполитой в состав соответствующих советских республик.
За несколько лет до распада СССР советский историк Л. Безыменский обнародовал секретный протокол к пакту Риббентропа-Молотова и сделал вывод: «Можно констатировать, что, по содержанию, ни один из пунктов не выходил за рамки широко распространенной в те времена практики. Аналогичные секретные договоренности имелись у демократий с Англией, Италией, Германией, а также с Польшей. Но именно аналогия заставляет отнестись с дополнительной строгостью к тексту, известному только в копии. Все ли в нем верно передает оригинал, если бы он существовал?» [265] «Круглый стол»: Вторая мировая война — истоки и причины // Вопросы истории. 1989. № 6. С. 20
Тезис не вызвал возражений у присутствующих на круглом столе светил советской науки — В. Фалина, О. Ржешевского, В. Малькова, В. Сиполса, А. Искандерова.
Непредвзятый анализ текста секретного протокола, как и отсутствие твердости советской позиции в первой половине сентября 1939 г., не дают оснований считать, что Риббентроп и Молотов в августе 1939 г. согласовали «четвертое разделение Польши» де-юре. Стороны договорились о «сфере интересов», то есть те территории, на которых сторона-контрагент не должна в будущем проявлять свою активность (концессии, капиталовложения, влияние на правящие органы, поддержка повстанческих движений и т. д.) — при любом развитии событий. Советский Союз не брал на себя обязательств осуществить военную операцию против Польши и тем самым нарушить действующие с этой страной двух- и многосторонние международно-правовые договоренности.
Читать дальше