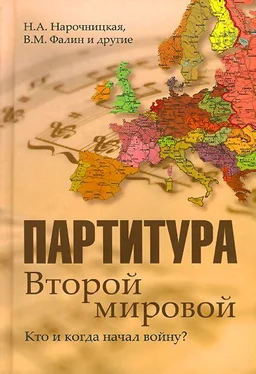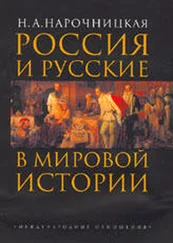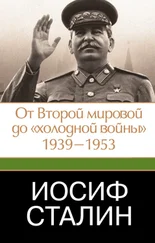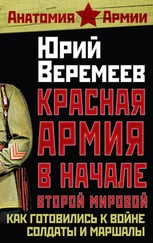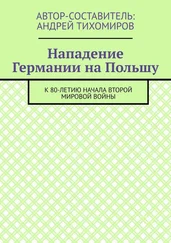Впрочем, сам М. И. Семиряга перечеркивает все свои три альтернативы пакту таким заявлением: «Конечно, рассчитывать на подобные альтернативные решения можно было только в случае уверенности в том, что Германия при отсутствии договора с СССР не нападет на Польшу» [151] Там же
. Очевидно, что никто таких гарантий дать не мог. Но если бы Германия не напала на Польшу, она могла договориться с Западом, что для СССР было бы не лучше. Таким образом, рассуждения М. И. Семиряги в поддержку «альтернатив» скорее убеждают в оправданности пакта.
Альтернатива подписанию пакта была. Но, как мы видели, это было не заключение англо-франко-советского союза. До нападения Германии на Польшу шансов на это не было. А после нападения СССР было невыгодно вступать в войну, которая начинается с поражения одного из союзников. СССР мог остаться нейтральным и не принять участия в разделе Польши. Это означало возвращение к стратегии «третьего периода», уход в глухую оборону в ожидании, когда столкновение «империалистических хищников» приведет к революциям. Но в первые годы войны ничего, способствующего революциям, не происходило. Поэтому альтернатива «глухой обороны» была весьма рискованной. Выбор времени удара по СССР оставался за противником. Момент начала советско-германской войны удалось бы отодвинуть на несколько лет — пока Гитлер не расправится с Францией и Великобританией. А затем СССР остался бы один на один с объединенной Гитлером фашистской Европой и Японией, опирающейся на ресурсы Китая и Индии.
Сталин предпочел другой вариант, вытекавший из традиционной европейской политики — участие в разделах, усиление своих стратегических позиций перед будущим столкновением. Специфика XX века заключалась в том, что борьба велась не просто за польское или даже французское наследство, а за наследство глобального рынка и глобальной системы колониального господства европейских держав. Судьба всего мира была ставкой в борьбе нескольких бюрократий, усилившихся в результате выхода индустриального общества на государственно-монополистический уровень развития [152] Подробнее см.: Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. 1929–1941. М., 2004
.
Предопределял ли пакт начало войны в Европе?
И Муссолини, и Вайцзеккер, и Шуленбург считали, что пакт поможет достичь нового Мюнхена. Теперь-то англичане станут сговорчивее. И полякам не на что надеяться. По свидетельству Вайцзеккера, после пакта даже Гитлер «полагает, что поляки уступят, и снова говорит о поэтапном решении. После первого этапа, считает он, англичане откажут полякам в поддержке» [153] Сиполс В. Указ. соч. С. 103
. Но фашистские руководители недооценивали самоуверенности польских политиков. Посол в Париже Ю. Лукасевич утверждал: «не немцы, а поляки ворвутся в глубь Германии в первые же дни войны!» [154] Мельтюхов М. Советско-польские войны. С. 193
.
Современные авторы не перестают спорить об ответственности СССР за начало войны. И здесь не обходится без крайностей. Утверждения о том, что «СССР стремился предотвратить Вторую мировую войну» [155] Сиполс В. Указ. соч. С. 108
, столь же продиктованы идеологией авторов, как и утверждение, будто «Сталин начал Вторую мировую войну» [156] Суворов В. «Ледокол». М., 1992
. Первое утверждение совершенно игнорирует коммунистическую идеологию, которой был лично привержен Сталин. Для него война между империалистами была положительным фактором, так как ослабляла противника. Важно, чтобы СССР не был втянут в войну до тех пор, пока империалисты не ослабят друг друга. Еще на XVIII съезде преспокойно говорилось, что новая мировая война уже идет. В то же время Сталин отлично понимал опасность гитлеровской экспансии, и предпочитал до августа 1939 г. сдерживать ее всеми возможными методами, включая силовые. Когда действия героев Мюнхена показали Сталину, что предотвратить захват Гитлером Польши не удастся, Сталин предпочел отгородиться от гитлеровской экспансии хотя бы на время. А будет за пределами его сферы влияния война или нет — дело Гитлера и Чемберлена. Гитлер и Чемберлен предпочли войну, что не огорчило Сталина, хотя он и не был инициатором этого их решения. Нужно было вырабатывать свою стратегию в условиях неизбежной перспективы столкновения с Гитлером.
М. И. Мельтюхов
Советский Союз и политический кризис 1939 года
В условиях краха Версальско-Вашингтонской системы международных отношений обострилась борьба великих держав за свои интересы. Мюнхенское соглашение, изменившее равновесие сил в Европе в пользу Германии, англо-германская, а затем и франко-германская декларации о ненападении свидетельствовали об усилении тенденции создания временного единого фронта европейских великих держав. Англия и идущая в ее фарватере Франция пытались радикально модернизировать Версальскую систему международных отношений на новых «мюнхенских» принципах баланса сил между великими державами Европы, что позволило бы Лондону и далее сохранять ведущее влияние в мировой политике. Однако этот английский план не слишком привлекал правящие элиты других великих держав. Постоянные англофранцузские уступки воспринимались германским руководством как признак слабости западных союзников и только укрепляли его стремление продемонстрировать силу и независимость от благосклонности Запада. Схожую позицию занимала Италия, все более сближавшаяся с Германией и надеявшаяся усилить свои позиции на Балканах и в Средиземноморье. При этом Рим пытался играть роль посредника между Лондоном, Парижем и Берлином, но категорически отказывался от участия в войне с неясным исходом. Закулисным, но влиятельным противником английского плана создания Мюнхенской системы международных отношений были и США, владевшие значительной частью германской промышленности и видевшие в Англии своего главного конкурента. Понятно, что срыв этих английских планов и эскалация кризиса в Европе вынудили бы Лондон пойти на уступки Вашингтону.
Читать дальше