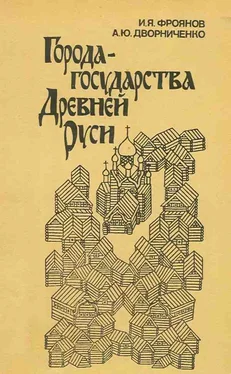В статье, опубликованной годом позже, В. Л. Янин в соавторстве с М. X. Алешковским писал уже о вече возле св. Софии, указывая, что «вече состояло из представителей привилегированного сословия, но его работа велась не за плотно закрытыми дверьми, а под открытым небом, в окружении толпы, неправомочной, но способной криками одобрения или негодования влиять на решения вечников» {188} . Стало быть, место для толпы, пусть неправомочной, все же нашлось. В работе 1973 г., несколько сместившей акценты, В. Л. Янин характеризовал как «весьма неточный тезис о наличии в Новгороде резко полярного размежевания населения на небольшую группу крупных землевладельцев, пользующихся всеми привилегиями вечевого строя, и зависимое население, полностью лишенное вечевых прав» {189} . Однако в более позднем труде автора вновь появился тезис 1970 г.: «Мизерность этой площади (вечевой. — Авт. ) соответствует выводу о предельной ограниченности вечевого собрания, а идентификация его с органом, именуемым в западных источниках „300 золотых поясов“, вносит должную ясность в социальную характеристику этого института» {190} . В итоге «емкость» веча определялось в 400–500 человек {191} . Если состав участников уличанских и кончанских вечевых собраний был более пестрым в социальном отношении, то общегородское вече представляется исследователю «искусственно образованным представительным органом» {192} .
Материалы о вече приводят нас к несколько иным выводам. Вече в XI–XII вв. являлось органом народовластия. Это — народное собрание с участием, а порой и под руководством знати {193} .
Трактовка веча В. Л. Яниным тесно связана с его представлением о роли и месте крупной усадьбы в жизни города. Правда, взгляды ученого со временем менялись. Так, если в 1970 г. В. Л. Янин считал, что в Новгороде были одни боярские усадьбы, то в 1973 г. он писал: «Признание крупной усадьбы единственной низшей ячейкой Новгорода представляется нам теперь неправильным. Наличие в Новгороде значительного массива непривилегированного свободного населения не может вызывать сомнений» {194} . Тем не менее, мысль об изначальности владения бояр усадьбами и крупными участками земли находим в последующих трудах историка. Концы в Новгороде «возникли как объединение нескольких боярских поселков, сохранивших свою зависимость от боярских семей вплоть до последнего этапа существования Новгородской боярской республики» {195} . Исследователь рисует картину изначальной частной собственности в Новгороде: «На участке земли, находящейся в частной собственности одного из родовых старейшин, стоял его двор… совокупность таких дворов составляла первоначальный поселок» {196} . Выдвигая это положение, В. Л. Янин в то же время признает трудность проследить корни системы, несомненной только для XIV–XV вв. {197} , указывает на то, что «боярские усадьбы» не отличаются друг от друга ни своими размерами, ни постройками, ни инвентарем {198} . Понятно, почему специалистам не удается пока «доказать родство владельцев какой-либо усадьбы на протяжении с X по XV в.» {199} . Мы присоединяемся к мнению Ю. Г. Алексеева, который считает, что тезис «об изначальности боярского землевладения противоречит всем существующим представлениям о вторичности боярской вотчины, постепенно выкристаллизовывающейся из общины, и не вытекает из непосредственных наблюдений самого В. Л. Янина» {200} . Проблему веча В. Л. Янин решает в тесном единстве с проблемой земельной собственности в Новгородской земле. Анализ содержания ранних берестяных грамот позволил ему заключить: «Деньги в грамотах XII века занимают столько же места, как земля и продукты сельского хозяйства в более поздних берестяных грамотах. И даже большее место, так как о земле в них не упоминается вовсе, а о деньгах в грамотах XIII–XV веков написано достаточно. Сейчас еще рано делать по этому поводу решительные выводы, однако вряд ли такая разница может быть случайной. Вероятно на протяжении XII в. исподволь происходило накопление денежных ресурсов новгородскими феодалами, позволившее им затем осуществить решительное наступление на те земли, которые в большом количестве в XII веке еще принадлежали свободным новгородским общинникам» {201} . Ю. Г. Алексеев, комментируя приведенное высказывание В. Л. Янина, писал, что оно «представляет большой интерес. Значит, именно XII в. был важным качественным рубежом в истории класса крупных феодалов-землевладельцев в составе новгородской городской общины, важным этапом в процессе превращения аристократии общинно-племенной в аристократию феодально-землевладельческую» {202} . Оценка правильная, но требующая одного уточнения: поскольку наступление новгородских бояр на общинные земли произошло позже XII в., то и качественный перелом в истории боярства должен быть вынесен за грань данного столетия и приурочен не ранее чем к XIII в. А это означает, что деление новгородцев, предшествующего времени, на привилегированных бояр и бесправную массу не имеет под собой социально-экономической основы.
Читать дальше