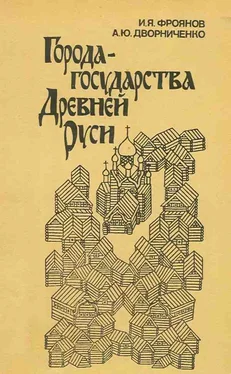Стремление Луцка, как и других древнерусских пригородов, к самостоятельности объясняется спецификой социально-политического строя, утвердившегося на Руси XI–XII вв. Непосредственная демократия, выражавшаяся в прямом участии народа в деятельности народных вечевых собраний, — важнейшая черта этого строя. Народоправство — вот тот молот, который дробил волости на части, создавая новые, более мелкие волости {138} .
Не все, естественно, пригороды Владимира достигли такой самостоятельности, как Луцк. Многие из них сохраняли зависимость от главного города, шли в фарватере его политики. Во время похода князей в 1157 г. на Владимир один из них «еха к Червну, червняне же затворишася в городе», и никакие увещевания не заставили их отворить городские ворота {139} . Жители пригорода не хотели идти вразрез с политикой главного города.
Характерные отношения пригородов с главным городом и его представителем князем видим в событиях 1150 г. Из летописи узнаем, что князь Изяслав, отправив своего брата Святополка во Владимир, сам пошел к Дорогобужу, «и вышедши Дорогобужьци с кресты и поклонишась… и пусти в город» {140} . Изяслав привел с собой венгров, что встревожило дорогобужцев. «Се, княже, — говорили они, — чюжеземьци Угре с тобою, а быше не сътвориле зла ни что же граду нашему». Изяслав успокоил дорогобужцев: «Яз вожю Угры и все земли, но не на свои люди, но кто ми ворог, на того вожю, а вы ся не внимаите ни во что же» {141} . От Дорогобужа князь пошел к Коречску, «и Корчане же вышедше с радостью и поклонишас ему» {142} . Все эти пригороды изъявляют покорность правителю главного города, показывая тем самым приверженность главному городу.
Связь главного города с пригородами не была всегда и везде, одинаковой. По отношению к Владимиру одни пригороды находились в более жесткой зависимости, а другие пользовались некоторыми привилегиями. Это обусловливалось уровнем социального развития самих пригородов как общественных организмов. Таким образом, становится очевидной неоднозначность зависимости пригородов от главного города: она могла быть и положительной и отрицательной. При неразвитости и слабости пригорода, особенно в начальный момент его существования, роль главного города была, несомненно, положительной, поскольку община волостного центра обеспечивала внешнюю безопасность пригородной общины. Но по мере того как пригород усиливался и стягивал прилегающие к нему земли, образуя свою собственную волость, зависимость от главного города превращалась в оковы, сдерживающие дальнейшее его развитие. Противоречия между главным городом и пригородом обострялись. И так продолжалось до тех пор, пока пригород, преодолев притяжение главного города, начинал жить как самостоятельная волость, или город-государство. Мы видели Луцк, достигший независимости от Владимира. Некоторые пригороды Владимирской земли во второй половине XII в. сумели обзавестись своими княжениями. Это — Берестье, Червен, Белз {143} . Возникновение княжений в упомянутых городах необходимо рассматривать как этап на пути приобретения самостоятельности и как проявление заметно продвинувшейся вперед консолидации местных общественных союзов. Данные процессы, происходившие во Владимирской волости, — признак зрелости волостной организации в целом, позволяющий сделать вывод о завершении к середине XII в. формирования города-государства в Волынской земле.
Становление города-государства во Владимире было тесно связано с освобождением от власти Киева. Эти тенденции находились во взаимодействии, стимулируя друг друга. Поэтому логично было бы думать, что с окончанием складывания города-государства во Владимирской земле должно было пасть господство Киева над Владимиром. Так оно и случилось: в середине XII в., когда окончательно сформировалась владимирская волостная система в виде города-государства, прекратилась и зависимость от Киевской земли. П. А. Иванов писал, что к концу 50-х годов Владимирская волость «совершенно обособилась от Киевской» {144} . К этому как будто склоняется и современный исследователь Н. Ф. Котляр. Но суждения его противоречивы: в одном месте своей книги он говорит о том, что в середине XII в. Волынь «выделяется в самостоятельное княжение», а в другом заявляет, что она в это время «делается полусамостоятельным княжеством, входившим в федерацию восточнославянских земель и княжеств» {145} . По нашему мнению, речь надо вести о прекращении в середине XII в. политической зависимости Владимира от киевской общины.
Читать дальше