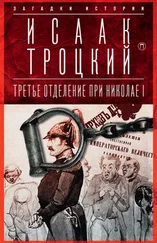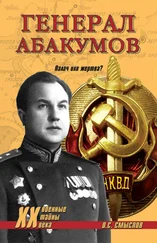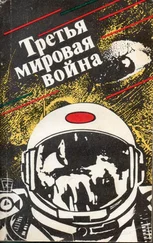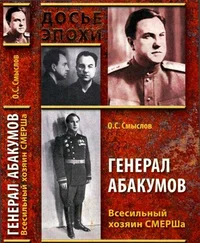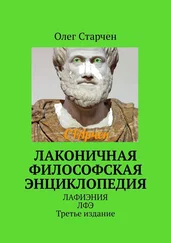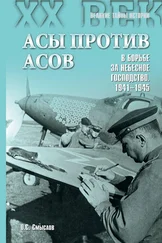В отчете Третьего отделения за 1860 г. подчеркивалось то, на что обращали внимание бдительные специалисты полиции слова: «Причины запрещения были как в русских, так и в иностранных пьесах, безнравственное или неблагопристойное направление, изображение в невыгодном свете целых сословий, не исключая и высшего, неуместное суждение о политических и других важных современных вопросах и, наконец, изобличение злоупотреблений крепостного права» [1006].
А вот взгляд изнутри. «Для театральной цензуры равно важны и судьба государства и судьба ничтожного чиновника. Народ восстает против притеснения губернатора („Вильгельм Телль“, неуважение к власти: „запрещается“. Квартальный напивается пьян и смешит честную компанию (купцы 3-й гильдии) — неуважение к власти: „запрещается“. Нравственное чувство цензуры возмущается проделками злостного банкрота, который за них попадает в тюрьму („Свои люди, сочтемся“): „запрещается“, а „Чужое добро в прок нейдет“, в первой картине которой воровство, во второй пьянство, в третьей еще более более пьянства, в четвертой nec plus ultra пьянства; в пятой допившейся до белой горячки сын идет резать спящего отца, „позволяется“. По понятиям ценсуры, — как видно из ее решений, — писать нельзя о казнокрадстве, о злоупотреблении власти, о купеческих проделках, о семейном разврате, об офицерах, о чиновниках, о крестьянах, о дворянстве, об откупщиках, об Иоанне Грозном, об опричине; о самозванцах…» [1007]— так критиковал цензуру Третьего отделения П. С. Федоров, начальник репертуарной части санкт-петербургских императорских театров.
Актуальность крестьянского вопроса послужила основанием для запрещения пьесы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина». Цензоры сочли неудобным в преддверии реформы разжигать народные страсти [1008]. По аналогии с ней чуть не запретили пьесу А. Н. Островского «Грех да беда». Цензор И. А. Нордстрем писал: «Эта новейшая пьеса […] есть отчасти картина того же темного царства, которая изображена им [А. Н. Островским] в прочих его пьесах, и вместе с тем она во многом напоминает и не одобренную к представлению драму Писемского „Горькую судьбину“» [1009].
Большое внимание цензорами обращалось на отношение драматургов к монархическому началу и особенно к выдающимся фигурам российской истории. Цензоры руководствовались высочайшим повелением Николая I, разрешившим изображать только «особы царей до дома Романовых». Так в 1857 г. было оставлено в силе запрещение трагедии М. П. Погодина «Петр Великий». Иногда запреты простирались и вглубь веков. Нежелательными были сюжеты, связанные с личностью Дмитрия Самозванца [1010].
Опасение вызывало изображение на сцене революционных событий, различных народных волнений, даже происходивших на Западе. В 1858 г. пьесу Э. Ожье «La jeu-nesse», отражавшую настроения французского общества в 1789 г., Александр II сопроводил пометкой: «По-моему можно», однако пьесу пропустили с большими исключениями [1011]. Против повторного рассмотрения в 1860 г. по ходатайству дирекции императорских театров пьесы И. В. Гете «Эгмонт» восстал министр двора В. Ф. Адлерберг, считавший, что это произведение «по существу революционное, хотя основанное на исторических фактах», и управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев пьесу запретил. Как отмечал Н. В. Дризен, «иногда цензура входила в рассмотрение причины, смуты, и, когда она была направлена в пользу утверждения законной власти, разрешала пьесу» [1012]. Цензор ходатайствовал о разрешении пьесы «Andreas Hofer», в которой подвиг главного героя был созвучен с подвигом Минина и Пожарского [1013].
Даже временная отдаленность событий не облегчала пьесам из придворной жизни доступ на сцену. Цензор И. А. Нордстрем в отзыве на одну немецкую пьесу писал:
«Содержание этой неестественной и нелепой драмы составляют почти исключительно всевозможные ужасы, убийства, отравления ядом, появление при дворе беглых каторжников под личиною аристократов и другие несообразности» [1014].
Величие образа монарха строго оберегалось. Основанием для запрещения пьесы «Die Sterne wollenes» (из истории Франции конца XVII в.) послужило то обстоятельство, что «в этой пьесе, исполненной придворных интриг, король выведен в неприличном его высокому сану виде» [1015].
Несмотря на то что драма «Graf Essex» немецкого писателя и драматурга Г. Лаубе была «превосходна в сценическом и литературном отношении», цензора Третьего отделения смущали как политические мотивы, так и обстоятельства личной жизни графа: «Эссекс представлен героем и государственным человеком, поднявшим знамя бунта за личное оскорбление королевы, с которой был когда-то в связи» [1016]. Через год, в 1859 г., не пропустили другой вариант этой драмы Г. Лаубе уже в русском переводе «Елисавета и граф Эссекс»: «Содержание то же самое: открытое восстание непокорного вассала и месть подданного монархине» [1017].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Абакумов Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] обложка книги](/books/27001/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven-cover.webp)