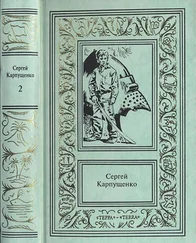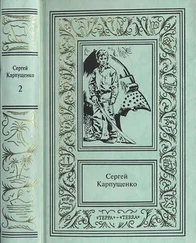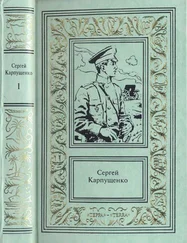- Поднимайтесь! Скорее, или я убью вас! Красным я вас не отдам!
Хромающий, но поддерживаемый Лузгиным, под снарядами, вырывавшимися из пушечных стволов "Петропавловска" и стремительно летевшими к густым цепям наступающих красноармейцев, Николай заковылял в сторону Петергофа, а спустя минуту послышался вой падающих на "Петропавловск" и "Севастополь" аэропланных бомб. Они разрывались и рядом с кораблями, взламывая лед, и на палубах кораблей, стрельба которых постепенно стала утихать. А потом в спину Николая что-то сильно толкнуло, а уши едва не разорвались от напряжения, вызванного страшным взрывом. Ничком он упал на лед подле не удержавшегося на ногах Лузгина и, медленно повернув назад голову, увидел высокий столб огня и дыма, поднявшийся над линкором, покинутым пять минут назад. Слезы, теплые и соленые, как вода близ Ливадии, в которой он так любил купаться, заструились по лицу Николая.
- Я немного рано к ним пришел! - сказал он. - Вот если бы не лед...
Позднее Николай от Лузгина узнал, с какой отвагой защищались мятежные матросы. Узнал, что оставшиеся в живых были препровождены в одиночки Петропавловской крепости, потом расстреляны, но на допросе никто из них и словом не обмолвился о том, что на мятеж их поднял воскресший император Николай.
* * *
9 января 1905 года, в Кровавое Воскресенье, царь внес следующие строки в свой дневник: "Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело". И не стоит сомневаться в искренности чувства, переполнявшего тогда Николай, - для его обычно столь бесстрастных дневниковых записей последние слова достаточно сильны и убедительны.
Итак, 9 января совершилось то, что послужило на руку лишь тем, кто мечтал о перемене строя. Их формула ясна предельно: шли к царю за милостью, милости не дали, но расстреляли. Власть и царь едины, следовательно, расстрелял царь, и этим он приговорил себя. Самодержцем очень удобно пользоваться, когда необходимо найти виновного. Строй демократический куда искусней умеет прятать виновных, да и винить своего избранника не хочется словно себя самого винишь за выбор...
Загуляло по всей империи стачечное движение, ликовали в зарубежье большевики, предчувствуя скорый пир, пусть и кровавый. С глубочайшей серьезностью обсуждали вопрос о том, как бы побольше простого люду втянуть в борьбу за свободу, равенство и братство. Взяли курс на вооруженное восстание, стали готовить группы боевиков, бомбистов, добывали оружие, взрывчатку. И вот уже восстали матросы самого мощного броненосца Черноморского флота "Князя Потемкина-Таврического", наводившего своими огромными орудиями ужас на всем побережье. Отмечались бунты в войсках, возвращавшихся с Дальнего Востока, громились крестьянами помещичьи имения, а число бастующих летом перевалило за миллион. Вся пресса, в оголтелом лае которой звучал лишь один призыв: "Долой существующий режим!", преобразилась в революционную. Революция казалась неизбежной.
Усмирить демона революции было решено раздачей народу конституционных свобод. Трудно было решиться на это, в декабре он ещё медлил, но между декабрем и октябрем была такая пропасть, свершилось так много нового, что теперь сам Витте уговаривал царя даровать свободы, иначе ни монархию, ни империю не спасти от полной катастрофы. В акте раздачи свобод так много монаршего, и сам этот акт будет воспринят как царская милость, хоть и может нанести ущерб абсолютизму. Манифест был им подписан 17 октября, и в тот же день, вечером, Николай Второй, предчувствуя, чем может обернуться дарование свобод, сделал в дневнике короткую запись: "Господи, помоги нам, спаси и усмири Россию".
Манифест 17 октября, который как бы говорил, что государственная власть слаба, а слабая власть - и не власть совсем, ибо в уме обывателя власть равняется силе, не только не примирил народ с правительством, но и дал большевистским агитаторам ещё один повод указать: "Посмотрите, власть колеблется, трепещет под вашим натиском! Это всего лишь подачки, уступки со стороны правительства, но нельзя обольщаться. Смело, товарищи, берите власть в свои руки! Долой самодержавие!"
И сразу же за оглашением дарованных свобод последовали новые кровавые вспышки смуты, кровь полилась ещё более широким потоком, и тогда русский царь, в душе которого не угасало сожаление о том, что Манифест, ограничивший его самовластие, был вредным и ненужным, согласился на решительные ответные меры...
Читать дальше