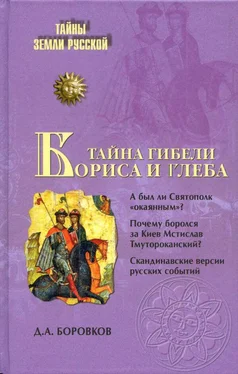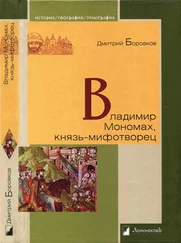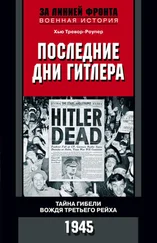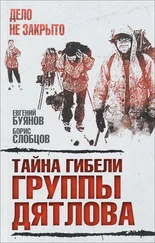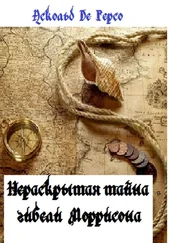На Любечском княжеском съезде еще присутствует идея единства, но летописец уже вынужден считаться с политической реальностью последних десятилетий, когда стольные города, находящиеся во владении разных княжеских ветвей, становятся причиной кровопролитных междоусобий, а внутри них вызревает партикуляризм городских общин. В этом контексте акт 1097 г. — это не только финал войны за «Черниговское наследство», но и своеобразный предохранитель от прецедентов 1073 и 1078 гг. По мнению И. Я. Фроянова и А. Ю. Дворниченко: «Договор князей, заключенный в Любече, являлся, по сути, признанием самостоятельности Чернигова и отчасти Переяславля» {359} 359 Фроянов, Дворниченко 1988. С. 91, 92.
. Хотя идея единства «Русской земли» сохранялась еще долгое время, с этого момента составлявшие ее ядро политические центры пошли самостоятельным путем.
Владения Святослава Ярославича с огромными экономическими ресурсами за пределами «Русской земли», были возвращены его детям в раздробленном виде, — следовательно, потенциальная политическая опасность для правителей Киева и Переяславля была устранена. Из летописных свидетельств можно заключить, что по условиям соглашения в Любече Давыд Святославич получил «стол» в Чернигове, Олег — княжение в Новгороде-Северском, Ярослав — в Муроме и Рязани. Существует предположение, что в обмен на возвращение детям Святослава их «отчин» Любечский съезд по инициативе Владимира Мономаха исключил «возмутителей спокойствия» Святославичей из числа наследников киевского «стола» {360} 360 Назаренко 2006. С. 281–284.
.
Как показали дальнейшие события, «возмутителями спокойствия» являлись не только они…
2.4. Ослепление Василько Ростиславича и династический конфликт 1097–1100 гг. Предпосылки и последствия
Сразу по завершении Любечского съезда начались междукняжеские интриги, жертвой которых стал теребовльский князь Василько Ростиславич. Как позволяет судить пространная повесть, помещенная в ПВЛ под тем же 1097 г. и написанная, как полагают, очевидцем событий, неким Василием (М. Х. Алешковский считал его автором второй редакции ПВЛ, составленной в 1119 г. и сохранившейся в Ипатьевской летописи, тогда как Сильвестр, автор текста, сохранившегося в Лаврентьевской летописи, всего лишь сокращал текст Василия в начале 1120-х гг.) {361} 361 Алешковский 1971. С. 32–53.
. Инициаторами интриг выступили некоторые из княжьих «мужей» (Василь, Туряк и Лазарь), которым удалось убедить волынского князя Давыда Игоревича в существовании коалиции, созданной Владимиром Мономахом и Васильком против Давыда и киевского князя Святополка. «И влез сатана в сердце некоторым мужам, и стали они говорить Давыду Игоревичу, что „Владимир соединился с Васильком на Святополка и на тебя“. Давыд же, поверив лживым словам, начал наговаривать ему на Василька: „Кто убил брата твоего Ярополка, а теперь злоумышляет против меня и тебя и соединился с Владимиром? Позаботься же о своей голове“».
Князю волынскому удалось достаточно быстро убедить в истинности своих слов князя киевского. «Святополк же пожалел о брате своем и про себя стал думать, не правда ли это? И поверил Давыду, и обманул Давыд Святополка, и начали они думать о Васильке, а Василько этого не знал, и Владимир тоже. И стал Давыд говорить: „Если не схватим Василька, то ни тебе не княжить в Киеве, ни мне во Владимире“. И послушался его Святополк» {362} 362 ПСРЛ 1. Стб. 257, 258. ПЛДР 1978. С. 249, 251.
.
Предпосылками этого династического конфликта послужили отнюдь не решения Любечского съезда. Они были созданы десятилетием раньше, когда на юго-западных окраинах древнерусского государства завязался еще один гордиев узел междукняжеских отношений — не менее сложных, чем в «Русской земле». С начала 50-х гг. XI в. княжеский стол на Волыни переходил из рук в руки между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого, пока в 1078 г. не оказался в руках Ярополка Изяславича, который вместе с княжением во Владимире-Волынском получил также княжение своего отца в Турове.
Когда в 1084 г. обострились его отношения с тремя сыновьями тмутороканского князя Ростислава, которые жили в его столице в качестве безудельных князей-изгоев, ему пришлось отстаивать свои владения с оружием в руках при поддержке Владимира Мономаха. В том же году в этот региональный «квартет» князей включился еще один внук Ярослава Мудрого — Давыд Игоревич, лишившийся «стола» в Тмуторокани (который он делил с Володарем Ростиславичем) и посаженный на княжение в Дорогобуж. Это могло вызвать недовольство Ярополка, связанного родственными узами и с немецкой аристократией, и с польским княжеским домом, и потому доступного влияниям «заграницы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу