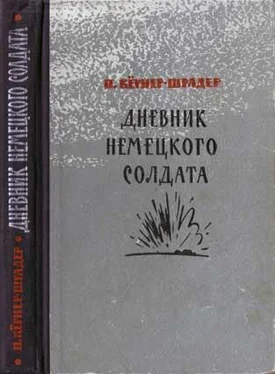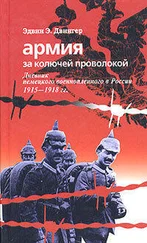— Украдено в Норвегии, — пробормотал я.
— Что? Украдено?! — истерически закричала сестра. — Вы все предатели. Веревка по вас плачет! — И продолжала еще что-то визжать о трибунале, измене, дисциплине.
И вдруг Гекманн, этот ярый приверженец Гитлера, заступился за меня:
— Что вы вмешиваетесь не в свое дело? — закричал он на медицинскую сестру. — Унтер-офицер прав. Вы лучше скажите, где наши воздушные силы? Где наши знаменитые оборонительные сооружения? Где, где?! Кругом сплошной обман.
И это тот самый юнец, который два дня назад грозил мне военным трибуналом.
Мы переходили из подвала в подвал. В одном из домов мой отряд обнаружил останки сгоревших людей. От прикосновения мертвецы рассыпались. Солдаты сгребали останки совками, жестянками, ведрами. Гекманн где-то раздобыл искореженную огнем эмалированную вывеску и принялся помогать солдатам. Постепенно копоть с вывески сошла, и отчетливо проступила надпись: «Храните свои деньги в строительной сберкассе, и вы можете построить себе собственный домик».
В припадке бешенства Гекманн швырнул свое орудие труда и стал топтать его. Солдаты молча наблюдали его истерику. Он поспешил наверх, бросился в развалины соседнего дома, долго копался там и вернулся снова с вывеской какой-то фирмы. Это была реклама зубной пасты: «Пользуйтесь пастой «Блендакс», и у вас будут красивые белые зубы».
— Белые зубы и черепа, это еще куда ни шло, — бормотал Гекманн, как бы извиняясь за свою недавнюю истерику. — Но собственный дом от сбережений среди развалин и трупов, от этого можно сойти с ума. Если вам нравится, смейтесь надо мной, мне все равно.
Солдаты решили немного передохнуть и закурили. Ефрейтор Кёлер, в прошлом музыкант, работал на поверхности, потому что у него два пулевых ранения в легкие, и ему нельзя спускаться в задымленный подвал.
С горечью он произнес:
— Неужели это когда-нибудь восстановят? Сколько же пройдет времени?
Гекманн впился в Кёлера глазами. Лицо его передернулось.
— А когда этому придет конец? — быстро заговорил он. — Мне кажется, что я полный идиот. Тело мое изранено. Моя мать живет в подвале среди бочек пива. Мою последнюю получку я отдал в фонд зимней помощи. Пора бы кончать с этим. Все это чепуха! Все надо прекратить. А мы еще жертвуем на это деньги. Идиоты! Кругом разрушения: дома, здесь, всюду, везде. Фронты отступают и спереди и сзади. У нас разбомбило дом, и у моей матери ничего нет. Ей выдали тридцать две марки, две чашки и две тарелки. А я, идиот, жертвую деньги. Надо со всем этим кончать!..
— Ты прав, Гекманн. Позавчера, когда я тебе говорил то же самое, ты хотел отправить меня в военный трибунал.
— Я же признал, унтер-офицер, что я идиот.
— Мы жертвовали на вооружение еще до начала войны. Мы пошли на фронт, и нам же пустили кровь. А после войны мы же должны платить за нанесенный ущерб. Пусть мне кто-нибудь из вас объяснит, какой для нас в войне прок?..
Все молчали. Только Гекманн еще раз повторил:
— Позавчера я был неправ, унтер-офицер. Только сегодня это до меня дошло.
Когда мы возобновили работу, Гекманн повел себя совсем странно. То он рыдал над чьим-то трупом, то громко и бессмысленно командовал, то подхватывал носилки и шагал с ними браво, как на параде. Я предложил ему поработать наверху, там складывали мертвецов на повозки.
Спустя некоторое время я тоже вылез наверх глотнуть свежего воздуха. Я шатался, как пьяный. Мы тащили с напарником носилки, накрытые куском полотна. Гекманн и музыкант Келер подхватили их у нас и опрокинули через борт повозки. Они проделали это неловко, с носилок в щебень скатилась головка ребенка.
Возница, старый человек, схватился за сердце. Гекманн уставился на детскую головку, потом сорвал с кителя орденскую колодку, дико захохотал и запел:
Антон, дерьмо мы возим,
Дерьмо мы возим для полка!
Антон, мы возим трупы, мы возим трупы
До победного конца!
Подошел офицер саперной части, освобождавшей подходы к подвалам.
— Унтер-офицер! Ваши люди перепились, что ли?
— Нет, господин капитан. Человек потерял душевное равновесие.
Капитан увидел детскую головку, побледнел и пошел, приговаривая:
— Боже мой, тут ничему не приходится удивляться.
Гекманна мы уложили на носилки. Я достал шприц и сделал ему успокоительный укол. Он все еще пел, но уже тихо, почти шепотом. А я, не в силах сдержать себя, стал орать на своих раненых:
— Сложить носилки! Вымыть руки! Служба окончена!
Читать дальше