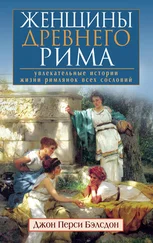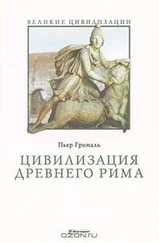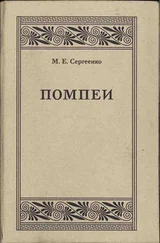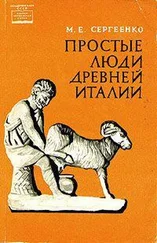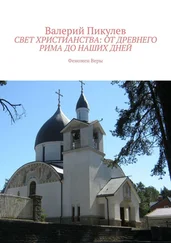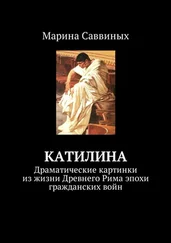Окончательное устройство Большой Цирк получил при Августе, который, может быть, только довершил то, что осталось незаконченным после Цезаря. К этому времени (7 г. до н.э.) относится описание его у Дионисия Галикарнасского (III. 68). На обеих длинных сторонах и на одной короткой, полукруглой, были устроены в три яруса сиденья для зрителей; в нижнем ярусе они были каменные, в двух верхних – деревянные. Вокруг цирка шла одноэтажная аркада, где помещались различные лавки и мастерские и где в толпе сновало много подозрительных фигур, рассчитывавших на поживу; среди них не последнее место занимали дешевые предсказатели – «астрологи из цирка», как их пренебрежительно обозвал Цицерон (de divin. I. 58. 132) и к бормотанью которых не без интереса прислушивался Гораций во время своих праздных и счастливых прогулок по Риму (sat. I. 6. 113—114). Крыши над этим огромным пространством не было, но в защиту от солнца можно было натягивать над зрителями полотно. Против полукруглой стороны расположены были по дуге carceres: двенадцать стойл, из которых выезжали колесницы и которые открывались все разом. Посередине между стойлами находились ворота, через которые входила торжественная процессия (pompa; отсюда porta Pompae), а над воротами была ложа для магистрата, ведавшего устройством игр; он же и давал знак к началу бегов, бросая вниз белый платок. С обеих сторон за стойлами возвышались башни с зубцами, создававшие впечатление крепостной стены, ограждавшей город, почему эта сторона и называлась oppidum – «город». Напротив Ворот Помпы находились Триумфальные, через которые выезжал возница-победитель; в 81 г. н.э. их заменила арка, воздвигнутая в честь Тита, покорителя Иудеи. Платформа – spina (длина ее равнялась 344 м) была теперь облицована мрамором и, судя по барселонской мозаике (самому хорошему изображению римского цирка), уставлена алтарями, храмиками, фигурами зверей и атлетов (они, может быть, символизировали игры, которые давались в цирке); были еще колонны со статуями Победы наверху, Великая Матерь богов, сидевшая на льве, и два «счетчика» для счета туров: возницы должны были объехать арену семь раз. Первый «счетчик» представлял собой как бы отрезок колоннады: на четырех колоннах, поставленных квадратом, был утвержден архитрав, и в него вставлено семь деревянных шаров («яиц»); после каждого тура специально приставленный к этому делу человек поднимался по лестнице к архитраву и вынимал одно «яйцо». В 33 г. до н.э. Агриппа, бывший в этот год эдилом, поставил на другом конце платформы для удобства зрителей, сидевших в этой стороне, второй «счетчик»: семь дельфинов. После каждого тура одного дельфина или снимали, или поворачивали хвостом в противоположную сторону. Главным украшением платформы были два египетских обелиска: один поставлен Августом, другой, гораздо позже, – Констанцием [172]. У обоих концов spina стояли высокие тумбы, напоминавшие по форме половину цилиндра, разрезанного вдоль, и на каждой из них – по три конусообразных столбика (meta); первой метой (meta prima) называлась стоявшая со стороны Триумфальных ворот, так как во время бегов она была первой, которую должен был обогнуть возница [173].
Страшное бедствие древнего Рима – пожары – не щадило и цирка; пожар 64 г. начался как раз с юго-восточной его части и охватил его целиком (Tac. ann. XV. 38). Горел цирк и до этого: в 36 г. до н.э. огонь уничтожил всю его авентинскую сторону (Tac. ann. VI. 45), но ее, видимо, быстро отстроили, так как Калигула вскоре дал в цирке игры, обставленные с чрезвычайной роскошью: арена была усыпана суриком и малахитовым порошком (Suet. Calig. 18. 3). Императоры вообще очень заботились о цирке и его убранстве. Клавдий, по свидетельству Светония, облицевал мрамором стойла (деревянных стойл давно уже не существовало, их сменили сложенные из туфовых квадр) и поставил вместо деревянных мет бронзовые, позолоченные (Claud. 21. 3); Нерон, чтобы увеличить количество мест, велел в 63 г. засыпать ров, окружавший арену; для защиты от диких зверей поставлен был по парапету между ареной и зрителями вращавшийся деревянный вал, облицованный слоновой костью: зверям не за что было уцепиться и не на чем удержаться (Calpurn. Ecl. 7. 49-53). Плиний называл Большой Цирк одним из великих сооружений: (XXXVI. 102). Наибольшего великолепия достиг цирк при Траяне. Он восстановил обе его стороны, уничтоженные пожаром при Домициане, использовав для этого камень, которым был выложен огромный пруд, устроенный Домицианом для потешных морских сражений (Suet. Dom. 5), значительно увеличил число мест для зрителей, – «сделал цирк достаточным для римского народа» (Dio Cass. LXVIII. 7. 2), и сломал ложу, из которой Домициан, не видный зрителям, смотрел на игры. Плиний Младший считал заслугой Траяна, что теперь «народу дано видеть не императорскую ложу, а самого императора, сидящего среди народа» (Paneg. 51. 5). О количестве мест в цирке много спорили: сомнения вызывали слова и Дионисия (150 тыс. мест при Августе, – III. 68), и Плиния Старшего (250 тыс., – XXXVI. 102). Гюльзен полагал, что при Августе цирк вмещал 55-60 тыс. зрителей, а при Константине – 180—190 тыс. Цифра Плиния считается наиболее вероятной, но окончательно вопрос не решен и посейчас.
Читать дальше