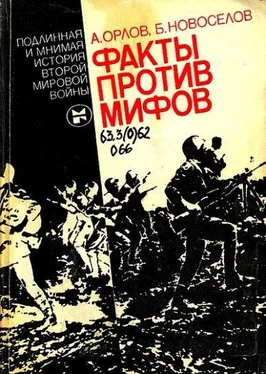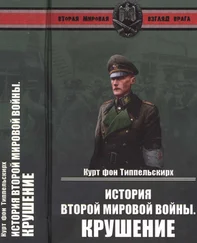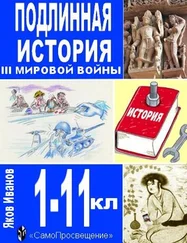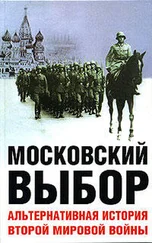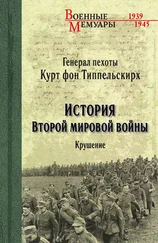В этой кризисной обстановке Советское правительство приняло предложение Германии подписать с ней договор. Оно сделало этот вынужденный шаг лишь после того, когда полностью раскрылись провокационные цели руководителей Англии и Франции, были исчерпаны все возможности заключения с ними равноправного договора и когда руководство буржуазной Польши категорически отвергло военную помощь СССР.
Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года. Гитлеровское правительство предложило заключить этот договор потому, что в тот момент оно еще опасалось начать войну против СССР. В его намерения входило сначала захватить страны Западной Европы и только после этого, используя ресурсы, напасть на Советский Союз.
Советское правительство, заключая договор с Германией, знало, что рано или поздно она развяжет войну против СССР. Но этот договор лишал империалистов возможности создать единый антисоветский фронт, позволял Советскому Союзу отвести на время угрозу от своих западных границ, выиграть, как показали последующие события, почти два мирных года для укрепления и совершенствования обороны страны.
«Не было бы Мюнхена, не было бы и пакта с Гитлером», — отметил впоследствии И. В. Сталин в беседе с У. Черчиллем в Москве в августе 1942 года. Еще в дни Мюнхена министр внутренних дел США Г. Икес записал в своем дневнике: «Я не удивлен действиями России… Россия подозревала Англию в том, что она вела двойную игру, договариваясь с Германией. Я думаю, что Россия права: Англия могла бы давно договориться с Россией. Англия бесцельно надеялась на то, что ей удастся столкнуть Россию и Германию друг с другом и, таким образом, самой остаться невредимой. Она попалась в ею же расставленные сети и, таким образом, утратила симпатии к себе во всем мире» [56] См.: Кулиш В. М. История второго фронта в Европе. М., 1971, с. 16.
. На зависимость пакта от мюнхенского соглашения и сегодня указывают некоторые трезвомыслящие историки на Западе. «Основы для 23 августа 1939 года, — пишет, например, западногерманский историк К. Хильдебранд, — были заложены в Мюнхене» [57] Brett — Smith R. Hitler's Generals. L., 1976, p. 279.
.
Таким образом, попытки английского и французского правительств вести двойную игру с целью столкнуть уже в 1939 году СССР с Германией и использовать это в своих империалистических интересах потерпели провал. Тем не менее, несмотря на значительные усилия Советского Союза, других прогрессивных сил планеты, предотвратить вторую мировую войну не удалось. Правительства стран Запада отклонили предложения СССР о совместных действиях против фашистской агрессии и тем самым развязали руки Гитлеру.
Исторический опыт учит: за попытки империализма разыграть «антисоветскую карту» расплачиваются прежде всего народные массы. Авантюризму империалистических, милитаристских кругов должны быть своевременно противопоставлены согласованные, активные действия всех миролюбивых сил.
Тревожные дни сентября 1939 года показали многое. Для народов Польши, ставших жертвами фашистской агрессии, война сразу же приобрела характер справедливой борьбы за свободу и национальную независимость. Вместе с тем крах буржуазно-помещичьей Польши в течение буквально двух недель под ударами танковых дивизий и авиации нацистского вермахта показал, насколько несостоятельна была политика ослепленных антисоветизмом правителей этой страны. Не далее как летом 1939 года они высказались категорически против пропуска советских войск через польскую территорию в случае германской агрессии, хотя это условие было совершенно необходимо, чтобы достигнуть соответствующее соглашение на проходивших тогда советско-англо-французских переговорах и таким образом обеспечить реальные гарантии Польше. Сентябрьский крах Польши показал, что «гарантии», которые Англия и Франция одни, без СССР, давали ей на случай агрессии Германии, ровным счетом ничего не стоят.
Война же, объявленная Англией и Францией Германии 3 сентября 1939 года, тотчас приняла характер «странной войны». Началось с того, что лишь 9 сентября, когда гитлеровские танковые дивизии уже начали окружение польских войск восточнее Варшавы, десять французских дивизий предприняли то, что было не более чем символическим жестом: на фронте шириной 32 километра они вошли в предполье немецкой так называемой «линии Зигфрида», продвинулись на 3–8 километров и, не встретив сопротивления противника, который отошел на основные позиции, остановились.
Читать дальше