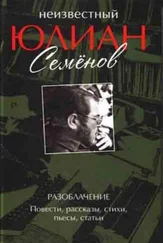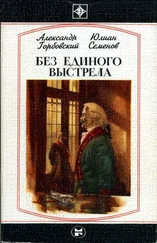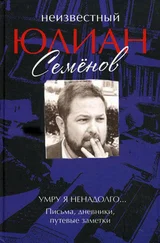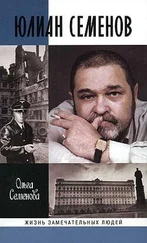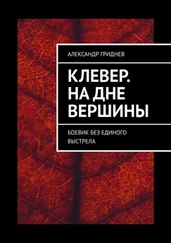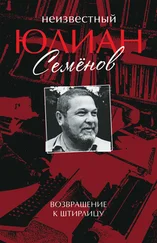— Да, — согласился прапорщик и поправил пенсне. — Доподлинно знали они эту дату — двадцать пятое января. Еще с рождества началась такая распродажа, только хватай! Себе в убыток продавали. И знаете что? В японских лавках значилась та же дата — распродажа не позднее 25 января! Нет, уверяю вас, они точно знали, когда начнется!
— Наши только почему не знали?! — высунулся было один из прапорщиков, в погонах, таких же новеньких, как у «студента», но тут же стушевался потому, что здесь был старший по званию, а слова его предполагали как бы некоторое неудовольствие высшим начальством и даже критику.
— Измена! — отрубил капитан. — На каждого нашего солдата здесь до войны по два японца сидело. И неизвестно, сколько еще сейчас осталось. Вот в Благовещенске был случай...
Все наперебой стали рассказывать «шпионские истории», причем чем фантастичнее они были, тем охотнее верили им.
«Студент» посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Увидел нечто продолговатое в пенсне, украшенное гладким пробором, и остался собой недоволен. О том, что позволяли себе японцы накануне войны и что происходило сейчас, он знал, наверное, лучше других, ехавших в этом купе. Но промолчал: распространяться об этом со случайными своими попутчиками было бы неуместно. То, что он знал, знать другим не полагалось, и это возвышало его в собственных глазах. Но поскольку другие не догадывались об этом тайном его превосходстве — было немного обидно. Будто он хуже этих других.
То же, что было ему известно, он знал со слов полковника генерального штаба, который пригласил его для беседы накануне отъезда. Трудно сказать, была ли это беседа или инструктаж — попытка на скорую руку ввести прапорщика в курс дел, которыми ему предстояло заняться.
— Мы говорили с вами час двадцать минут, — сказал полковник, поднося к глазам серебряную луковицу часов.
— Я обязан считать, что подготовил вас для будущей вашей миссии. Учтите, в японской армии на это уходят, очевидно, недели, может, месяцы. Помните об этом и не приведи бог полагать себя умнее или хитрей неприятеля.
Но именно к этому сводилась некая тайная его мысль. Про себя он называл ее «Идея» с заглавной буквы.
— Заведующему разведкой, — заключил офицер,— передайте поклон от меня. Скажите, полковник Самойлов хорошо помнит его по Болгарии...
В купе между тем «шпионская тема» не иссякала.
— А кто слышал, господа, о есауле, который оделся в японский мундир и шашкой зарубил их генерала?
Поскольку никто не слышал, капитан поведал одну из тех легенд, которые появляются во всякой армии, когда ей приходится плохо.
— А где ж есаул по-японски говорить научился? — спросил кто-то из прапорщиков, когда капитан кончил рассказ.
Спросил не с сомнением, а только для того, чтобы получить еще одно свидетельство есаульской лихости. И получил его.
А ему и не надо было! Как кто ему скажет что, он только зубы оскалит — «пошел», мол, у них это знак такой, и за шашку! От него и отставали. И физиономией схож оказался. Из калмыков, говорят. А уж как генерала-то этого достал, тут уж он по-русски им крикнул, чтоб знали за наших, мол, ребятушек! Вскочил на коня — и был таков!
— Не догнали?
— Куда там! Ушел. Потом сам господин командующий, генерал Куропаткин, ему, говорят, «Георгия» вручали. Однако газетам писать о том запрещено было, и даже фамилии есаула никто не знает. Есть, значит, у командования на этот счет свои виды...
И по тому, как он сказал это и замолчал, можно было понять, что он, капитан, видам этим некоторым образом причастен.
То, что мог бы рассказать «студент», выглядело куда менее драматично. Никто шашкой никого не рубил и на коне не скакал. Все было прозаично, анонимно, но от этого только страшнее.
Решение начать силами 1-го Сибирского корпуса операции под Вафаньгоу было принято 31 мая. Тогда же с соблюдением всех мер секретности Куропаткиным была направлена об этом шифрованная телеграмма в Петербург. Но уже на другой день, 1 июня, в Токио об этом было известно. Когда, рассчитывая на полную неожиданность, 1-й Сибирский корпус перешел в наступление, японцы ждали и были готовы к этому. Батальоны атакующих, захлебнувшись кровью, откатились назад (Другой пример глубокого проникновения японской разведки — история кавалерийского рейда генерала Мищенко на Инькоу. Штабу японского фельдмаршала Ояма было известно о готовящейся операции за две недели до того, как это стало известно самим частям, участвовавшим в рейде. Японцы знали не только число солдат, но и точные номера частей. Каким образом эта сверхсекретная информация стала известна неприятелю, на этот вопрос до сих пор нет ответа)
Читать дальше
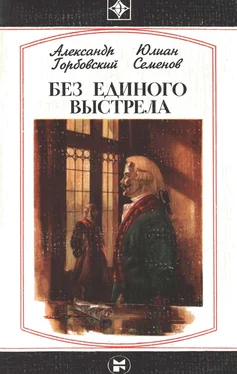
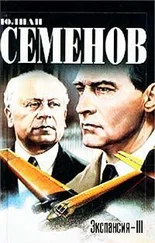

![Павел Торубаров - Без единого выстрела[сборник]](/books/70380/pavel-torubarov-bez-edinogo-vystrela-sbornik-thumb.webp)