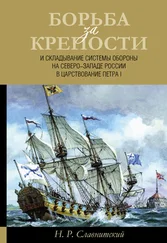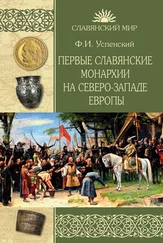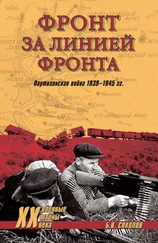«1. Во всех колхозах строго соблюдать трудовую дисциплину, ранее учрежденные общими собраниями правила внутреннего распорядка и нормы выработки, беспрекословно выполнять приказания председателей и бригадиров, направленные на пользу работы в колхозах.
2. На работу выходить всем безоговорочно, в том числе служащим, единоличникам и беженцам, работать доброкачественно.
3. Бригадирам и счетоводам строго ежедневно учитывать работу каждого в отдельности лица и записывать выработанные трудодни.
4. Подготовку почвы к осеннему севу и проведение осеннего сева производить строго коллективно.
5. Распределение всего собранного урожая года производить только по выработанным трудодням, о чем будет дано отдельное распоряжение.
6. Строго соблюдать неприкосновенность от посягательства к расхищению государственного, колхозного и личного имущества частных лиц».
Распоряжение хозяйственной комендатуры, изданное в августе 1941 года, предписывало:
«В целях своевременной уборки сена и хлебов приказываю:
1. Уборку и обмолот хлебов производить существовавшим до сего времени порядком, то есть коллективно.
2. В тех сельских обществах, где урожай разделен на корню, сжатый хлеб свезти в общественные склады.
3. Руководство уборкой возлагается на председателей колхозов, указания и распоряжения которых для каждого члена общества обязательны.
4. Невыход на работу без уважительных причин будет рассматриваться как противодействие командованию германской армии со всеми вытекающими последствиями.
5. К уборке хлебов привлекать всех единоличников, насчитывая им трудодни».
Содержание вышеприведенных документов свидетельствует о том, что забота о сохранении колхозов являлась хозяйственной политикой, проводимой оккупантами. Попытки ликвидировать колхозы или нанести им какой-либо вред пресекались самыми жестокими мерами. Была полностью сохранена структура управления сельским хозяйством, сложившаяся в предвоенное время. Труд в колхозах и при немцах был обязательным. В поле работало все трудоспособное сельское население в возрасте от 14 лет и старше по 11–12 часов в сутки. Каждый должен был выработать 20–25 трудодней в месяц. «Общинника», не выработавшего по уважительной причине минимальную норму в 20 трудодней, по распоряжению старосты или коменданта увозили на биржу труда для отправки в Германию или отправляли в трудовой лагерь. На одного работающего выдавалось по 8-11 килограммов различного зерна в месяц. В этом пайке, как правило, были овес или ячмень. Крестьяне по этому поводу говорили: «Хитрую политику немцев может и дурак понять: колхоз им нужен для того, чтобы лучше грабить нашего брата, так как поодиночке они сделать это не в состоянии».
С началом войны и возникновением реальной опасности оккупации партийные и советские руководители всех уровней начали убеждать население разбирать по домам оставшийся от эвакуации скот, инвентарь и колхозные запасы, чтобы они не достались врагу. Оккупанты же, напротив, выступили ярыми «защитниками колхозной собственности». Все это походило на фарс. Прислужники немцев — старосты, полицейские, назначенные оккупантами председатели колхозов и бригадиры — стали ревнителями теперь уже немецкого колхозного строя. Вместе с коллективистской идеологией и колхозным строем немцы вынуждены были принять на себя и все сопутствующие им атрибуты: собрания, планы сельхозработ и сдачи продукции, статьи селькоров в местных газетах, отражавшие обычное колхозное разгильдяйство. То есть в деревнях практически ничего не изменилось.
Новый хозяин колхозной собственности со своей немецкой чопорностью, педантизмом, доходящим до тупости, нечеловеческой жестокостью, наглостью и бесцеремонностью крестьянам очень не понравился. Довоенные колхозные руководители были людям ближе, понятнее и человечнее. Русские не те люди, в которых сидит дух непротивления злу насилием. Несмотря на свое природное добродушие и терпеливость, мы можем быть очень даже буйными. Поэтому крестьяне Идрицкого и Себежского районов под руководством отрядов НКВД устроили немцам к 1944 году партизанскую войну, превратившуюся для них в настоящую кровавую баню. Оккупанты в ответ жгли и убивали несчастных баб, стариков и детей. Сопротивление приобрело и антиколхозную окраску. Партизаны искренне убеждали население в том, что после войны колхозов не будет. Когда мы читаем или слышим о том, что на территории Братского партизанского края действовали колхозы, это правда.
Читать дальше
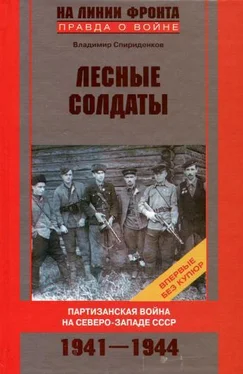
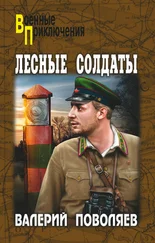


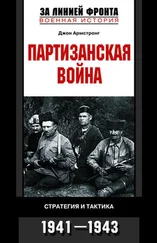
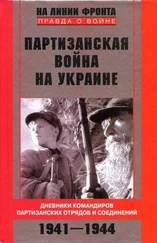
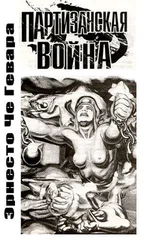

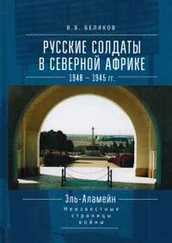
![Мунгит Балий - Партизанская война [СИ]](/books/413289/mungit-balij-partizanskaya-vojna-si-thumb.webp)