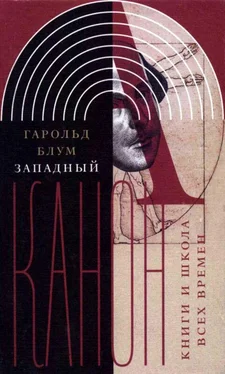Нынче я, кажется, одинок в попытках отстаивать автономность эстетики, но лучший аргумент в пользу ее автономности — это чтение «Короля Лира» и последующий просмотр хорошей постановки этой пьесы. «Король Лир» не происходит из кризиса в философии, и нельзя отделаться объяснением его силы как мистификации, которую каким-то образом навязали нам буржуазные институции. То, что человека, полагающего литературу независимой от философии, а эстетику — несводимой к идеологии с метафизикой, держат за эксцентрика, — признак вырождения литературоведения. Эстетический метод возвращает нас к автономности художественной литературы и суверенитету обособленной души, к читателю не в социальном его измерении, но в его глубинной сущности, к нашей окончательной самоуглубленности. У сильного писателя глубокая погруженность в себя — это сила, ограждающая его от гнета свершений прошлого, который в противном случае подавлял бы всякую самобытность, не давая ей проявиться. Великая словесность — это всегда переписывание или пересмотр, и основывается она на чтении, расчищающем в ней место для нового «я» или заново открывающем старые произведения свежим переживаниям. Самобытность не самобытна — но Эмерсонова ирония уступает место Эмерсонову же практическому наблюдению: изобретатель умеет заимствовать [17] Блум цитирует «Литературу и общественные задачи» («Letters and Social Aims», 1876) P. У. Эмерсона; cp.: «Самобытность не самобытна. <���…> Только изобретатель умеет заимствовать, и каждый человек является или должен быть изобретателем».
.
Страх влияния калечит слабые таланты, но подзадоривает канонический гений. Трех самых ярких американских писателей Хаотической эпохи — Хемингуэя, Фицджеральда и Фолкнера — тесно объединяет то, что все они возникли из влияния Джозефа Конрада, но хитроумно умерили его, совместив Конрада с предшественником-американцем: Хемингуэй — с Марком Твеном, Фицджеральд — с Генри Джеймсом, Фолкнер — с Германом Мелвиллом. Частица того же хитроумия видна и в том, как Т. С. Элиот скрестил Уитмена с Теннисоном, Эзра Паунд сплавил Уитмена с Браунингом, а Харт Крейн, вновь обратившись к Уитмену, лишился зависимости от Элиота. Сильные писатели не выбирают своих главных предшественников: это те их выбирают, но у сильных писателей достает разумения, чтобы превратить предшественников в составные и, следовательно, отчасти воображаемые сущности.
В этой книге я не занимаюсь собственно интертекстуальными связями между двадцатью шестью писателями, о которых говорю; мое намерение — рассмотреть их как представителей всего Западного канона, но, несомненно, мой интерес к проблемам влияния проявляется почти что на каждом шагу, и, наверное, я не всегда отдаю себе в этом полный отчет. Сильные литературные произведения — агонистичные вне зависимости от того, хотят они таковыми быть или нет, — нельзя отделить от их тревог, вызванных сочинениями, предшествующими им и над ними главенствующими. Хотя большинство исследователей противятся пониманию процессов литературного влияния или идеализируют эти процессы, изображая их как сугубо безвозмездные и благостные, мрачные истины касательно соперничества и «заражения» крепнут по мере удлинения истории Канона. Стихотворения, пьесы и романы возникают исключительно как следствие предшествующих сочинений, как бы ни было сильно их желание непосредственно служить общественным нуждам. Обусловленность правит литературой так же, как и любым когнитивным занятием, и обусловленность, установленная Западным литературным каноном, проявляется в первую очередь в страхе влияния, который формирует и деформирует всякое новое произведение, стремящееся к долговечности. Литература — это не только язык; это и воля к образности, мотив для метафоры [18] Блум отсылает к стихотворению У. Стивенса «Мотив для метафоры» («The Motive for Metaphor», 1947).
, который Ницше однажды определил как желание отличаться, желание быть не здесь [19] Cp.: «Это побуждение к образованию метафор — это основное побуждение человека, которого нельзя ни на минуту игнорировать, ибо этим самым мы игнорировали бы самого человека — на самом деле вовсе не побеждено тем, что мы из его обесплоченных созданий — из понятий — выстроили новый, окоченелый мир, как тюрьму для него; оно даже едва этим обуздано. Оно ищет для своей деятельности нового царства и другого русла и находит его в мифе и вообще в искусстве» (Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или как философствовать молотом. О философах. Мн.: Харвест; М.: ACT, 2000. С. 370.).
. Это означает, среди прочего, — отличаться от самого себя, но в первую очередь, мне кажется, — отличаться от наследуемых нами метафор и образов предшествующих сочинений: желание написать нечто великое — это желание быть не здесь, а в своих собственных времени и месте, в самобытности, которая должна соединяться с наследованием, со страхом влияния.
Читать дальше