Столь быстрый рост военного могущества понтийских царей свидетельствует, что их государство обладало внушительным военным потенциалом. Особенности такой ситуации крылись, несомненно, в гибкой централизованной военно-административной организации, при которой цари, привлекая на свою сторону многие местные племена и народы, могли использовать их в качестве военной силы, наделять землей и вовлекать в занятия сельским хозяйством как полувоенных поселенцев. Последнее облегчалось тем, что многие местные народы Пафлагонии и Понта были организованы на военно-хозяйственный манер еще до возвышения Митридата I в Кимиате [55] Leonhard B. Paphlagonia. B., 1915. S. 126 ff.; Максимова М. И. Указ. соч. С. 129–131.
. В восточной Малой Азии с древнейших времен существовало множество укреплений, которые Митридатидам оставалось только сделать своей опорой и превратить в центры, которые притягивали бы к себе в экономическом и военном отношении варварское и греческое население, оседавшее на их земле.
Согласно Ксенофонту, население северо-восточных районов Малой Азии жило в деревнях-комах, укреплениях - τα χωρία и городах-полисах. Последние не являлись городами в полном смысле слова, а представляли собой укрепленные поселения, которые Ксенофонт обозначил знакомым ему греческим термином. Система этих поселений была организована таким образом, что все они подчинялись одному крупному укреплению - χωρίον μητρόπολις, или просто μητρόπολις·. Он был не только важнейшим центром обороны соответствующего племени или союза племен, но и столицей округа, так как в таком укреплении находился акрополь и резиденция царя или вождя племени. Все укрепления располагались на возвышенностях и служили убежищами для жителей деревень на равнинах или местом хранения урожая ( Xen . Anab. IV. 7.2; 19; V. 4.31). Вот почему ахеменидским сатрапам и понтийским владыкам не составило труда закрепить эту сложившуюся издревле форму контроля за подвластным населением и сделать ее более прочной и гибкой [56] Об организации управления на землях племен севера Малой Азии подробнее см.: Максимова М. И. Указ. соч. С. 129–133.
.
Организация территории по "военному" принципу, использование древних укреплений в качестве опоры власти на хоре, превращение их в центры (τα φρούρια) военно-хозяйственных поселений, объединенных по округам, - все это стало залогом успешных действий первых понтийских царей по расширению границ государства. В этот период сложилась административно-территориальная система царства, упрочившаяся при Фарнаке I (см. выше). Тогда округа и получили, вероятно, название стратегий. Система эллинистических стратегий усиливала могущество царской власти, укрепляла управление царскими землями и, по выражению Г. Бенгтсона, "сделала возможным строгое, централизованно построенное управление, что способствовало сохранению господства эллинистической монархии по отношению к местному населению", в конечном счете - "сохранение государства как такового" [57] Bengtson Н. Die Strategie in der Hellenistischen Zeit. München. 1937. Bd. 1. S. 34–36.
.
Основная часть земельного фонда в Понте и Пафлагонии находилась в руках царя. Это подтверждается, во-первых, свидетельством Цицерона: во второй речи об аграрном законе Рулла оратор говорит, что этот закон "предусматривает продажу земель", которые сделались собственностью римского народа после завоеваний на Востоке. К их числу относятся "царские земли в Вифинии, доходы с которых в настоящее время получают откупщики, земли Аттала в Херсонесе, земли в Македонии, принадлежащие царю Филиппу и Персею", а также "царские земли, которыми Митридат владел в Пафлагонии, Понте и Каппадокии" ( Cic . De leg. agr. II. 50, 51). Во-вторых, на это указывает и характеристика некоторых укреплений у античных авторов. Так, укрепление (ερυμα ιδρυμένον) Сагилий Страбон называет "полезным царям во многих отношениях" (XII. 3.28), крепость Пимолису он характеризует как "царскую" (φρούριον βασιλικόν) (XII. 3.40). Об укреплении Кимиата как царском владении выше уже была речь. Митридат Евпатор, завладев областями к Востоку от Понтийской Каппадокии - Малой Арменией, Софеной, Колхидой, страной халдеев и тибаренов, основал там 75 укреплений, превращенных в газофилакии (казнохранилища). Им было основано множество укрепленных казнохранилищ вдоль всей горной цепи Париадра, представлявшего собой сеть превосходных естественных укреплений ( Strabo . XII. 3.28). Аппиан сообщает, что означенные крепости (τά φρούρια) имели огромное значение для царя: он описывает некое укрепление Митридата VI, в подземельях которого хранилось большое количество денег. Оно находилось в ведении одной из жен-наложниц царя Стратоники, которая сдала его Гн. Помпею ( App . Mithr. 107). От Аппиана мы узнаем также, что укрепление Синорега (Σινόρηγα φρούριον) также служило важным казнохранилищем и убежищем царских войск (Ibid. 101). Эти сведения показывают, что укрепления были расположены в царских владениях и являлись центрами поступления налогов с этих земель, взимаемых представителями царской администрации - наместниками территорий и округов, в состав которых данные крепости входили. Такая практика хорошо известна в других эллинистических монархиях, в частности в государстве Селевкидов [58] Дьяконив М. М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961. С. 170; Bickerman E. Institutions des Seleucides. P., 1938. P. 78–89; KreissigH. Wirtschaft und Gesellschaft im Seleucidenreich. B., 1978. S. 50; Briant P. Rois, tributs at paysants. P., 1982. P. 63.
.
Читать дальше
![Сергей Сапрыкин Понтийское царство [Государство греков и варваров в Причерноморье] обложка книги](/books/26100/sergej-saprykin-pontijskoe-carstvo-gosudarstvo-gr-cover.webp)
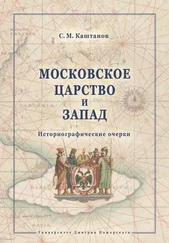


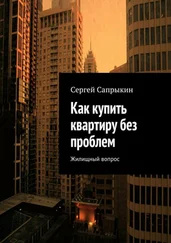
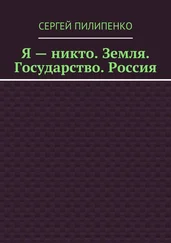

![Сергей Сорочан - Ромейское царство [Часть 2]](/books/402489/sergej-sorochan-romejskoe-carstvo-chast-2-thumb.webp)
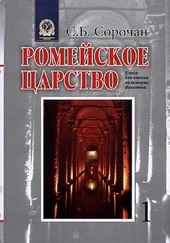
![Сергей Плохий - Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации [c 1470 года до наших дней]](/books/433093/sergej-plohij-poteryannoe-carstvo-pohod-za-impersk-thumb.webp)

