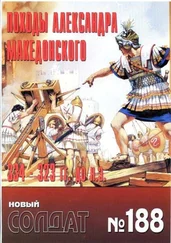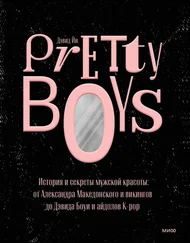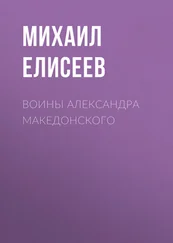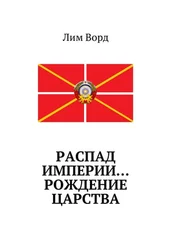Исход боевых действий решался конницей, которой в большинстве случаев руководил властитель. Эта чисто восточная черта, появившаяся уже у Александра, получила в дальнейшем гипертрофированное развитие, при котором только конница признавалась реальной боевой силой. В Греции, где полисные традиции сохранялись, эта ориентация тактики проявлялась менее ярко. Больших сражений стороны избегали. Боевые действия в Греции сводились главным образом к осадам городов, обороне горных переходов, укрепленных позиций и к обходным маневрам, а в Азии, где масштаб боев был наибольшим, пехота часто была лишь свидетельницей мощных схваток, пока ее не обращали в бегство и не начинали истреблять. Широко распространялись хитрость, предательство, откровенный подкуп. Перебежчикам выплачивались солидные деньги, и, видимо, некоторые удачники зарабатывали переходом от одного вождя к другому больше, чем собственно войной.
Необходимость существенных изменений в армии заставила уже Александра обратить особое внимание на создание новой конницы. Берве датировал дату рождения смешанной иранской и македонской конницы 329 г. до н.э. Но он основывался при этом на плохо истолкованном тексте Арриана, в котором говорится только о реквизиции лошадей и ничего — о наборе конницы. В. В. Тарн считал, что создание иранской конницы осуществлено в 326 г. до н.э., во времена индийского похода. П. Бриан в создании конницы различает два этапа: создание иранской конницы как вспомогательный этап, начавшийся перед походом в Индию, и проникновение этих восточных всадников в македонскую конницу. Однако известно, что еще в Индии бактрийские и согдийские составы сражались отдельно. Лишь по возвращении из Индии, точнее в 324 г. до н.э., незадолго до восстания в Описе, появилась эта новая смешанная конница, описанная Аррианом. Во время всех походов в Иран и Индию Александр при всем его ориентализме количественно и качественно ограничивал прием иранских всадников. Те же предосторожности он предпринял прежде, чем включить молодых иранцев, предназначенных сражаться в фаланге. Тем не менее в 327 г. до н.э. Александр отдал приказ набрать 30 тыс. молодых персов и обучить их. Это облегчило в 323 г. до н.э. в Вавилоне создание новой фаланги, в которой тесно смешались македоняне и персы после того, как Певкест привел 20 тыс. новобранцев. Диодор указывает, что Александр в то время не хотел создать македоно-иранскую фалангу, а собирался сформировать параллельно македонской фаланге новую армию — так называемую антитагму. Эта антитагма была организована по образцу македонской армии; командирами там были персы. Она была полностью отделена от македонской армии, лагерь ее располагался за городом, и она самостоятельно демонстрировала свои маневренные способности перед Александром.
В Описе обособление антитагмы по воле Александра становится еще более очевидным. Царь, сильно разгневанный противодействием собрания македонян, принимает решение держать их подальше от своей персоны. Более того, он созывает собрание восточных солдат, в котором македоняне не имели права участвовать.
Кризис в Гифасисе ярко показал Александру его огромную зависимость от македонской армии. Создание антитагмы из восточных контингентов позволяло ему изменить соотношение сил в свою пользу. Созданная в промежутке между Гифасисом и Описом антитагма стала для царя новой и решительной армией. Между бунтарским поведением (тактикой) македонян и институтом антитагмы существовала тесная связь. Эта антитагма позволила дать понять македонянам, что отныне Александр мог обходиться без них. Полностью раскаявшихся македонян он надумал ввести в антитагму. Создавая из антитагмы своеобразное войско-противовес, царь решил принудить македонян согласиться остаться в Азии и сотрудничать с восточными народами. По замыслу Александра, создание параллельной иранской фаланги было только этапом на пути организации новой ирано-македонской армии.
Более последовательно и целеустремленно проблему создания антитагмы решали диадохи. Известно, что Эвмен, найдя македонскую пехоту взбалмошной и надменной, в противовес ей создал конницу как антитагму. Чтобы осуществить это, он предоставил местным жителям, способным держаться на коне, освобождение от уплаты налогов и повинностей и распределил среди тех, кто составлял его окружение и на кого он более других полагался, специально купленных лошадей. Он поддерживал новую конницу почестями и подарками, укрепляя их тело маневрами и упражнениями так что среди македонян одни цепенели от изумления, а - другие, облеченные доверием, видели, что за очень короткий период он собрал себе конников, число которых «не превышало шести тысяч трехсот человек».
Читать дальше
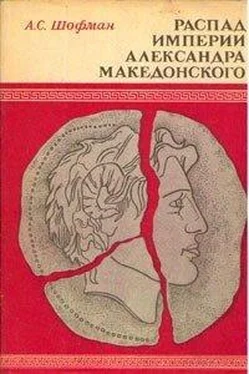
![Аркадий Шофман - История античной Македонии [в 2 частях]](/books/25835/arkadij-shofman-istoriya-antichnoj-makedonii-v-2-chas-thumb.webp)
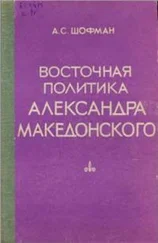


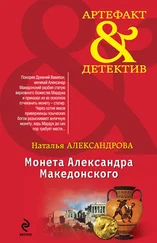

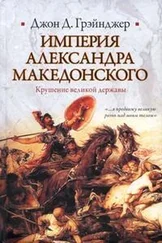
![Крис Нонтон - В поисках гробниц Древнего Египта [Тайны Нефертити, Александра Македонского, Клеопатры]](/books/395294/kris-nonton-v-poiskah-grobnic-drevnego-egipta-taj-thumb.webp)