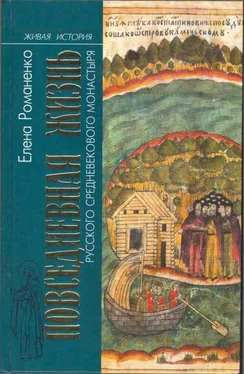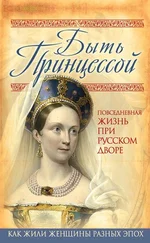На Русском Севере также обязательно выращивали лук и чеснок как главное средство в борьбе с цингой. Даже в XIX веке эта смертоносная болезнь представляла собой реальную угрозу для иноков. Так, в конце 90-х годов XIX века восемь монахов из Артемиева Веркольского монастыря на реке Пинеге в Архангельской области попытались освоить новое место к северу от обители и создать там скит, но семеро из них умерли от цинги. Некоторым подспорьем для подвижников были, конечно, грибы и ягоды, которыми изобилуют северные леса. Но хлеба всегда не хватало или не было вовсе. Поэтому подвижники часто голодали. Соловецкий остров славился как «добрый и благоугодный» для жизни монахов. На острове росли разнообразные ягоды, грибы, в озерах водилось множество рыбы. Но когда преподобный Зосима остался здесь зимовать без муки и масла, которые преподобный Герман не успел привезти с материка, он пережил сильный голод и чудом остался жив.
В Житии преподобного Герасима Болдинского рассказывается, что он, часто подолгу не имея куска хлеба, повесил при дороге «кошницу» (корзину), и прохожие опускали в нее хлеб — милостыню для святого. Также и нищие, шедшие этой дорогой, питались из кошницы преподобного Герасима.
Монахи, жившие не очень далеко от крестьянских поселений, обычно занимались каким-нибудь ремеслом и меняли свое рукоделие на хлеб и другие продукты. Преподобный Мартирий Зеленецкий, живя в своей землянке, плел лапти из лыка («калиги лычны») и посылал их с неким крестьянином в село. Взамен жители того села отправляли преподобному хлеб или другие продукты, а он за них молил Бога. Преподобный Дионисий Глушицкий делал «спириды» (корзины), работал в кузнице и так питался от труда своих рук. А кроме того, преподобный еще писал иконы. По преданию, именно он написал прижизненный образ святого Кирилла Белозерского.
Обычно жития умалчивают о том, какие муки голода испытывали подвижники, обосновываясь на новом месте. В Житии преподобного Александра Свирского есть рассказ самого преподобного о годах своего отшельничества. Его сохранил боярский сын Андрей Завалишин. Он имел поместье на реке Свирь и любил здесь охотиться. Однажды во время охоты на оленя Завалишин углубился в чащу леса и увидел келью отшельника, так он познакомился с Александром Свирским. Подвижник рассказал ему, что уже семь лет живет в этой келье, не видя лица человеческого. Изумленный Андрей спросил его, чем же он питался все эти годы. Преподобный Александр ответил, что ел он «былие» (траву), росшее в лесу, которое смешивал с «перстью» (землей), хлеба же не имел никогда. На следующий вопрос Завалишина, как он мог перенести такое, подвижник сказал, что сначала он сильно страдал «утробой» и сердечными болями, так что даже катался по земле. А потом посланный от Бога ангел исцелил его.
Что же за «былие» ели отшельники, чтобы выжить в наших северных лесах? Ответ на этот вопрос содержит послание святителя Нектария (Теляшина), архиепископа Сибирского и Тобольского. Будущий святитель был сыном крестьянина Патриаршей Осташковской слободы и еще в детстве поступил в Нило-Столобенскую обитель. Два года он обучался в монастыре грамоте и правилам иноческой жизни, потом принял постриг, стал иеромонахом, а затем и настоятелем монастыря. Но в 1636 году вопреки своему желанию игумен Нектарий был посвящен в архиерейский сан и возведен на Сибирскую кафедру. Через три года он попросил царя Михаила Феодоровича вернуть его в родной Нилов монастырь. В прошении он писал: «Како мне забыти труды и раны, и глад, и жажду, и наготу, и босоту? И до смерти мне надобно помнить: какова милость Божия надо мною грешным была в Пустыни, и что мы кушали: вместо хлеба траву папорть и кислицу, ухлевник и дягиль, и дубовые желуди, и дятлевину, и с древес сосновых кору отымали и сушили и, с рыбою смешав, вместе истолкши, а гладом не уморил нас Бог?» ( Нило-Столобенская пустынь. С. 38 ).
Замечателен подвиг и первого монаха Столобенского острова — преподобного Нила. Он переправился на остров в 1528 году, перезимовал в пещере, а с наступлением весны построил келью и часовню. Питался преподобный желудями, травами и возделывал землю своими руками. Иногда принимал подаяния от окрестных жителей. Проводя дни и ночи в трудах и молитвах, он не позволял себе присесть или прилечь даже на малое время. А при крайнем изнеможении стоял, опираясь руками на деревянные крючья, вбитые в стену его кельи.
Похожим было пребывание на Демьяне озере другого русского отшельника — святого Никандра Псковского. Он никогда не просил милостыни, питался только тем, что боголюбивые люди приносили сами, а недостаток в пище восполнял все тем же «былием и ужем» ( Житие преподобного Никандра. С. 323 ). В беседе с диаконом Петром из Порхова преподобный Никандр однажды рассказал о своих страданиях: «Три года я болел («пренемогал») ногами, а теперь обрел отраду». Когда Петр посмотрел на ноги святого, то увидел, что кости его голеней почти обнажились, а мягкие ткани «отпадоша от ногу его» ( Там же. С. 326 ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу