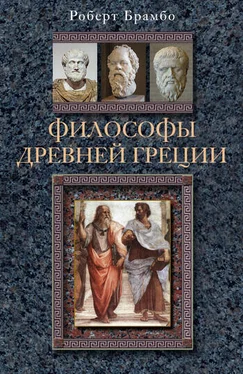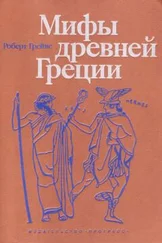Из других документов, таких, как «Двойные аргументы» («Dissoi Logoi»), видно, что некоторые из подражателей Протагора были не очень сообразительными. Этот документ представляет собой таблицу обобщенных аргументов, полезных при доказательстве таких утверждений, как «Одна и та же вещь хороша, плоха, а также не хороша и не плоха». Однако сам Протагор так блестяще владел профессиональной техникой юристов, что представлял каждое дело, которое вел, в виде, рассчитанном на то, чтобы завоевать симпатии присяжных для своего клиента, и добивался того приговора, которого хотел.
Протагор, как и Горгий, терпеть не мог абстрактных научных и философских рассуждений. Одно из самых знаменитых его высказываний звучит так: «Человек – мера всех вещей: тех, которые есть, – что они есть, а тех, которых нет, – что их нет» 12. Подразумевал ли он, что каждый человек – мера или что мера – все общество в целом, в любом случае это утверждение отражает новое представление об истине как о чем-то относительном, что зависит от культуры и индивидуальности наблюдателя. Он также написал: «Что касается богов, существуют ли они, я не знаю из-за трудности этой темы и краткости человеческой жизни» 13. Благочестие, справедливость, истина и тому подобное очевидны для человека, а скорее являются условностями, которые выработало общество. Афинские адвокаты следующего поколения не хитрили, когда сформулировали одно из положений, вытекающих из этой точки зрения: в любом судебном деле невозможно сказать, какая сторона «справедлива», до тех пор, пока это не решил суд, поскольку закон – это «лишь то, что суды сделали», а справедливость – «то, что суды сделают».
Другой софист, Продик, является наилучшим примером нового отношения к языку как к инструменту, а не как к магии, что было очень важным завоеванием культуры. Человек, который вырос в таком сообществе людей, где существует всего одна разновидность речи, тем более до изобретения грамматики, вообще не понимал, что говорит на определенном языке. Ему должно было казаться, что его форма речи – естественная и передает другим людям смысл слов правдиво и напрямую. Такое некритичное поведение опасно, и работа, которую проделал Продик, сослужила большую службу западной цивилизации. Его классификация частей речи: имена, артикли, глаголы, причастия и частицы – была началом научной грамматики на Западе. То, как он разграничивал значения близких синонимов, приводило в восторг его современиков. Он также был первым, кто стал изучать различия между диалектами и историю слов 14. Лекции Продика о языке были широко известны: у Платона Сократ извиняется за то, что недостаточно хорошо владеет словом, потому что мог заплатить только за дешевую лекцию Продика, а не за дорогой «полный курс языка» 15. В то же время, если портрет Платона вообще верен, Продик был ученым-педантом: определял разницу между словами независимо от того, являлось ли это различие значительным в данной ситуации, и был способен истолковать стихотворную строку «Трудно быть добрым» как «Добро – плохое» после подробного поочередного и тщательного этимологического анализа входящих в нее слов 16. Но после Продика, был он педантом или нет, греческим мыслителям пришлось осознать существование языка и занять определенную позицию по отношению к таким вопросам, как способность обычного языка адекватно описывать мир, потребность философии в специальной профессиональной терминологии и меры языковых предосторожностей, необходимые, чтобы отличить реальные рассуждения и опровержения от чисто словесных 17.
Гиппий из Элиды известен нам в основном по двум диалогам, написанным в Академии Платона: чувство, которое он там вызывал, напоминает отношение Гераклита к Пифагору: большая ученость не всегда делает человека мудрым, а может быть «полиматией – искусством вредить и сеять смуту».
Дело в том, что Гиппий был истинным полиматом: он знал все. Он изобрел так называемое искусство запоминания и выодно использовал его, организовав собственную «викторину» и сыграв в ней главную роль на Олимпийских играх 18. Он был компетентным математиком и астрономом, а также проявлял интерес к прикладному искусству и ремеслам 19. В одном из платоновских диалогов Гиппий рассказывает, как он появился на Олимпийских играх, и его одежда, обувь, кольцо – все было его собственной работы. Чтобы завершить эту демонстрацию своей разносторонности, он прочел стихотворение, сочиненное им самим.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу