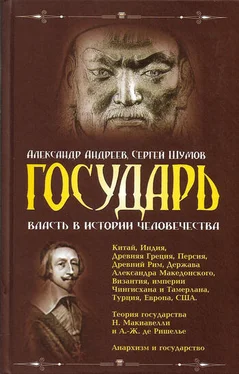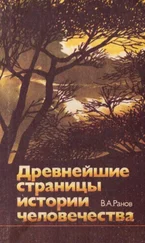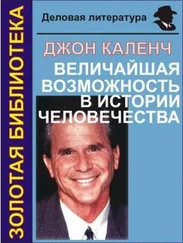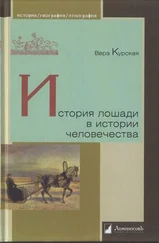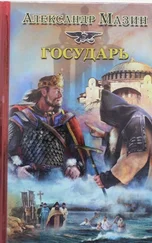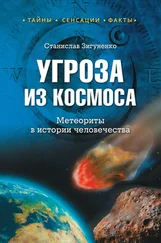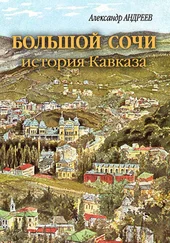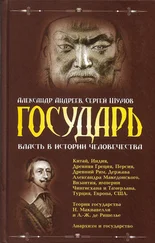Анархисты-бакунинцы 70-х годов XIX века проповедовали массовые бунты и восстания, но анархисты конца XIX века, поняв, что народ не поднять, перешли к индивидуальному террору, за что были исключены из II Интернационала в 1891 году. Самые громкие террористические акты анархистов – взрыв бомбы во французском парламенте в 1893 году, убийство французского президента Карна в 1894 году, убийство австрийской императрицы Елизаветы в 1898 году, убийство итальянского короля Гумберта в 1900 году.
Карательные органы европейских стран уничтожили анархистов-террористов. Новым течением стал анархо-синдикализм, вообще отрицавший политическую борьбу и призывавший рабочих к массовой борьбе путем забастовок, бойкота, демонстраций, плохой работы – т. е. использование непосредственного давления масс извне.
Знаменитая фраза М.Бакунина – «дух разрушающий есть в то же время и дух созидающий» – стала общим лозунгом анархистов, писавших на своих знаменах «Долой власть и капитал».
После Октябрьской революции 1917 года анархизм пользовался влиянием в Испании, имевший там свою организацию ФАИ – федерацию анархистов Иберии.
После Второй мировой войны и подъема национального движения влияние анархизма уменьшается. Периодически во Франции проходят конгрессы сторонников Анархизма, организованных ФАИ. Анархисты существуют также в Италии, Аргентине, Швеции, других странах.
Видная вагархистка Эмма Голдман писала в своей работе «Анархизм» одновременно напечатанной в Москве и Петербурге в 1921 году:
«Я анархист! Поэтому я не стану
Управлять, но не желаю и быть управляемым.
Д.Г.Маккей.
История человеческого развития есть в то же время история отчаянной борьбы каждой новой идеи, возвещающей более светлое будущее. В своей упорной любви к укоренившимся традициям приверженцы старины никогда не колеблются пустить вход самые подлые и жестокие методы борьбы, чтобы только задержать наступление нового, в какой бы форме оно ни выражалось. Нам не нужно обращаться к далекому прошлому, чтобы видеть, какая сильная оппозиция, какие громадные трудности и препятствия стоят по пути к осуществлению каждой прогрессивной идеи. Дыба, машина для завинчивания пальцев и кнут – еще живы среди нас; рядом с этим – платье арестанта, общественная злоба – все работает против духа, смело идущего вперед.
Анархизм не мог надеяться избежать судьбы всех других новаторских идей. Наоборот, как самое революционное и некомпромиссное течение, анархизм должен был встретиться с невежеством и злобой мира, который он имел в виду перестроить.
Странной чертой оппозиции анархизма является то, что при этом выявляется отношение между так называемым развитым интеллектом и невежеством, хотя если принять во внимание относительность всего существующего, это не должно казаться странным. Невежественные массы имеют в свою пользу то, что они и не претендуют на знание или терпимость. Они всегда действуют импульсивно, рассуждая, как дети. «Почему?» – «А потому что». Однако оппозиция невежественных масс анархизму заслуживает такого же внимания и обсуждения, как и оппозиция интеллигентных людей.
Каковы же возражения? Во-первых, анархизм непрактичен, хотя и является прекрасным идеалом. Во-вторых, анархизм стоит за насилие и разрушение и поэтому должен быть отвергнут, как преступный и опасный путь. И интеллигенция, и невежественный народ судят не на основании точного знания предмета, а понаслышке или вследствие ложного толкования».
«Суд истории» или выход из тупика?
Выдающийся историк начала XX века Е. Шмурло писал: «Суд истории» – ходячее выражение, но выражение неправильное, по меньшей мере неточное, нуждающееся в оговорке. История не судит, пере ней ни правых, ни виноватых. Она лишь объясняет поступки людей».
История также информирует нас, как решались в прошлом проблемы, в разное время стоявшие перед человечеством. Наше дело – использовать эти знания для развития цивилизации, благополучия и процветания народов.
Что касается «исполнителей» рекомендации Истории, то об их судьбе с горечью писал Арман дю Плесси, кардинал де Ришелье:
«Чтобы человек не совершил, общество никогда не будет справедливо к нему. Великий человек, достойно служивший своей стране, сродни приговоренному к смерти. Единственная разница состоит в том, что последнего карают за грехи, а первого – за добродетели».
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу