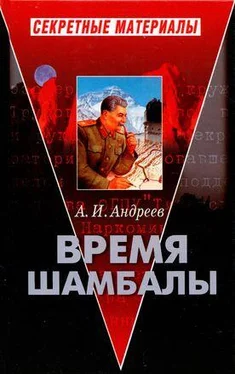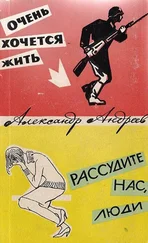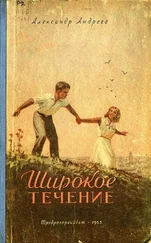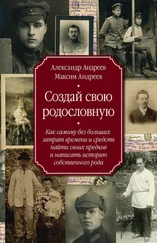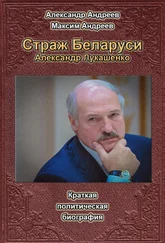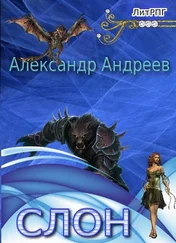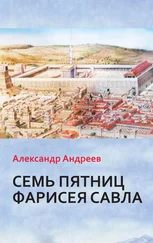Синьхайская революция в Китае (1911 г.), приведшая к падению цинской династии и установлению республиканского строя в стране, ускорила изгнание китайских войск из Тибета, что помогло Далай-ламе вернуться в Лхасу в январе 1913 г. Вскоре после этого он провозгласил независимость Тибета. Это событие стало поворотным пунктом в судьбе тибетского народа. Республиканское правительство Юань Шикая (президент Китая с 1912 г.) не признало, однако, суверенного статуса Тибета, но ничего не смогло изменить в создавшейся ситуации. Революция ввергла Китай в состояние политического хаоса и привела к раздроблению страны на ряд фактически самостоятельных территорий, управляемых военными губернаторами — «ду-дзюнами». Связь Лхасы с Пекином также практически полностью прервалась («амбань» с его гарнизоном бежал из Лхасы в 1912 г.). Аналогичным образом маньчжурские власти и войска были изгнаны из Внешней Монголии, которая затем объявила об отделении от Китая и провозгласила своим светским и духовным правителем Чжебцун-Дамба Хутухту, третье лицо в ламаистском мире после Далай-ламы и Панчен-ламы.
Россия и Англия, естественно, стремились использовать ситуацию в Китае, каждая в свою пользу — для укрепления своих позиций во Внешней Монголии (Россия) и Тибете (Англия). Петербург, впрочем, преуспел в этом гораздо больше Лондона — 3 ноября 1912 г. русский дипломат И. Я. Коростовец подписал в Урге договор с монгольскими князьями о создании автономного монгольского государства под русским протекторатом. Основы этого договора были подтверждены в соглашении 1913 г. и затем окончательно закреплены в Кяхтинском тройном русско-китайско-монгольском акте 1915 г. В своих мемуарах барон Б. Э. Нольде писал: «На русской границе, от Алтая до Маньчжурии, место Китая заняли монголы, все будущее которых, политическое и культурное, было в руках России. Цель была достигнута без резких и непоправимых конфликтов, бесшумно и без всякого намека на политическую авантюру» [322].
В эти же годы, сосредоточившая свое внимание на более актуальном для нее монгольском вопросе, русская дипломатия все более отстранялась от «тибетских дел». В целом, МИД усматривал определенный «параллелизм между нашим положением в монгольском вопросе и положением Англии в вопросе Тибета» и даже считал выгодным для себя «заключение между английским правительством и Далай-ламой непосредственного соглашения», при условии, однако, чтобы оно не нарушало англо-русской конвенции 1907 г. [323]При этом Петербург недвусмысленно рассчитывал на получение политической компенсации от Лондона в тех областях, где русские интересы соприкасались с английскими.
В мае — июне 1913 г. состоялся обмен меморандумами между Лондоном и Петербургом, свидетельствовавший об их одинаковом подходе к «тибетскому вопросу». Английское правительство заявило, что считает наилучшей политикой по отношению к Тибету «начало международного невмешательства в его внутренние дела». Русское правительство, со своей стороны, всецело присоединилось к такому взгляду «как вытекающему из духа и смысла соглашения 1907 г., которое является одним из основных актов, определяющих положение названной страны» [324]. В том же 1913 г. МИД России и Форин Оффис столь же единодушно заявили о своем непризнании монголо-тибетского дружественного договора, заключенного Доржиевым ранее в Урге (11 января — 29 декабря 1912 г. ст, стиля) от лица Далай-ламы с монгольским правительством, по причине, неправомочности подписавших его сторон. В этом, на первый взгляд, политически довольно безобидном соглашении правители Тибета и Монголии, Далай-лама и Чжебцун-дамба, прежде всего взаимно признавали независимость, первый — монгольского, а второй — тибетского государств. Другие статьи договора содержали ряд деклараций общего характера — о взаимной помощи двух народов «в случае внутренней и внешней опасности», о взаимном покровительстве монголами тибетцам, а тибетцами монголам, проезжающим через территории соответственно Монголии и Тибета и др. [325]Ургинский договор несомненно преследовал цель создания духовного и политического союза между Тибетом и Монголией, но в то же время с его помощью Доржиев, очевидно, стремился привлечь русское правительство к «тибетским делам».
Объявление независимости Тибета Далай-ламой потребовало от него решения ряда неотложных задач, таких как улучшение системы государственного управления, реорганизации армии, а также урегулирования дипломатических отношений с пекинскими властями. Особенно остро стоял вопрос военной реформы, ввиду сохранявшейся угрозы нового китайского вторжения. До 1913 г. Тибет не имел регулярной национальной армии. Тибетское войско насчитывало 3 тысячи необученных и плохо вооруженных воинов. Достаточно сказать, что основным оружием тибетцев были примитивные фитильные ружья. В 1913–1914 гг. Далай-лама приступил к созданию регулярной тибетской армии, во главе которой он поставил своего нового фаворита, 27-летнего Царонга. Выходец из простой семьи, Царонг (настоящее имя Ченсал Намганг), прославился как «герой Чаксама». В 1910 г. его отряд задержал у переправы Чаксам китайские войска, преследовавшие бежавшего из Лхасы Далай-ламу [326]. Царонг увеличил численность армии на одну тысячу человек. Военная подготовка рядового состава передавалась в ведение иностранных инструкторов и велась в четырех вновь сформированных полках по китайско-монгольской, японской, русской и английской системам. Спустя два года в Лхасе прошел показательный смотр войск — в результате Далай-лама отдал предпочтение английской системе, которая с того времени и была введена в тибетской армии. В 1914 г. англичане безвозмездно поставили тибетцам 5 тысяч винтовок (старого образца «Ли Метфорд» и нового «Ли Энфилд») и полмиллиона патронов к ним. В то же время представитель Далай-ламы просил русского генконсула в Урге о продаже Тибету 1 тыс. винтовок для защиты страны от возможных посягательств со стороны Китая, но тот отказал ему, посоветовав обратиться к английскому правительству через посредство индийских властей [327]. Этот факт, вероятно, еще раз дал понять Лхасе, что она не может больше рассчитывать на помощь далекой и «инертной» России и что поэтому ей следует искать опору в гораздо более отзывчивой к ее нуждам и уже совсем не опасной Англии в лице соседней Индии.
Читать дальше