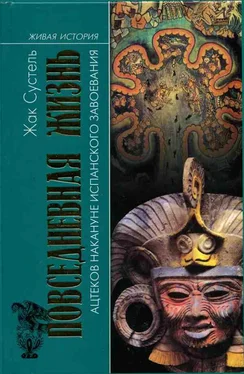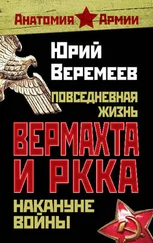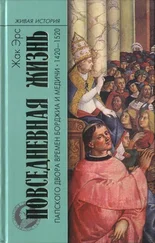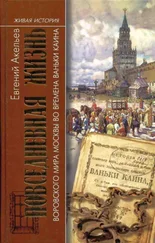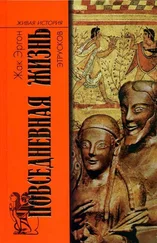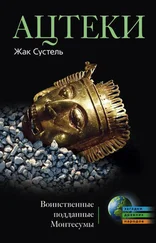Нам, разумеется, трудно по-настоящему понять, что означала для ацтека XVI века человеческая жертва. Отметим все же, что в каждой культуре есть свое особое понятие того, что жестоко, и того, что таковым не является. В эпоху расцвета Римской империи на аренах цирков проливалось для развлечения больше крови, чем ацтеки пролили перед своими идолами. Испанцы, столь искренне возмущенные жестокостью туземных жрецов, сами резали, жгли, увечили и пытали с невозмутимой добросовестностью. Например, Кортес велел отрубить ступни кормчему Гонсало де Умбриа, повесить двух испанцев и дать другим по двести ударов кнутом, а также приказывал отрубать руки пленным индейцам. Мы сами вздрагиваем, слушая о кровавых ритуалах в древней Мексике, но в наше время на наших глазах цивилизованные народы устраивают систематическое истребление миллионов живых существ и создают оружие, способное уничтожить за одну секунду в сто раз больше жертв, чем было умерщвлено за всю историю империи ацтеков.
Человеческие жертвоприношения у мексиканцев не вдохновлялись ни жестокостью, ни ненавистью. Это был их ответ (единственный ответ, который они могли себе представить) уязвимости мира, постоянно находившегося под угрозой. Чтобы спасти этот мир и человечество, нужна была кровь: приносимый в жертву — не враг, которого убивают, а гонец, которого отправляют к богам и который сам облечен богоравным достоинством. Все описания церемониалов, например, те, что продиктовали Саагуну его собеседники из ацтеков, создают впечатление, что между жертвами и жрецами не существовало ничего похожего ни на неприязнь, ни на жажду крови, но некое странное братство или, вернее (это следует из текстов), нечто вроде мистического родства. И такое впечатление возникает само собой.
«Когда человек завладевал пленником, он говорил: "Вот мой возлюбленный сын". И пленник отвечал: "Вот мой досточтимый отец"» («Флорентийский кодекс»). Воин, захвативший пленника и присутствовавший при его смерти перед алтарем, знал, что рано или поздно последует за ним в мир иной, умерев похожим образом. «Добро пожаловать, ты знаешь, каков исход войны: сегодня для тебя, завтра для меня», — сказал, если верить Тесосомоку, император одному пленному вождю. Что до самого пленника, прекрасно осведомленного о том, что его ждет, и с детства подготовленного к тому, чтобы принять такой конец, то он стоически склонялся перед судьбой. Более того: он отказывался от помилования, противоречащего его судьбе и божественной воле, если ему его предлагали.
Вождь мешиков Тлакауэпан, плененный чальками в правление Мотекусомы I, так отличился своей доблестью, что захватившие его враги предложили ему и другим ацтекам, попавшим к ним в руки, часть своей территории. Он не только сохранил бы себе жизнь, но и стал бы господином этой части города; ему даже предложили командование войсками Чалько. Вместо ответа Тлакауэпан покончил с собой, воскликнув, обращаясь к товарищам по плену: «Мешики, я ухожу и буду вас ждать!»
Не менее знаменита история одного вельможи из Тлашкалы, Тлауисоле, который был пленен мешиками: те настолько им восхищались, что вместо того чтобы принести его в жертву, доверили ему командование войсками в войне с Мичоаканом. Но вернувшись из похода, осыпанный почестями тлашкальтек не захотел больше скрываться от судьбы: он потребовал смерти на жертвенном камне и добился ее.
Таким же было отношение всех остальных приносимых в жертву — юноши, который целый год жил, окруженный княжеской роскошью, чтобы в конечном итоге погибнуть перед изображением Тескатлипоки, или женщин, которые флегматично танцевали и пели, тогда как позади них жрецы в темных одеждах выжидали момент, чтобы срубить им головы, точно кукурузные початки. Сформированная могучей многовековой традицией чувствительность индейцев не была похожа на чувствительность их современников-европейцев: бесстрастно взирая на кровавые сцены, разворачивавшиеся в их храмах, они ужасались, глядя на казни, которые принесли с собой испанцы из страны инквизиции (Кортес лично приказал сжечь живьем перед императорским дворцом сановника Куаупопоку и еще четырех вождей).
Вышеизложенные соображения позволяют понять, в чем заключался для древних мексиканцев смысл войны — той вечной войны, которую город питал всей своей энергией. Наверное, можно расценивать историю Теночтитлана с 1325 по 1519 год как историю империалистического государства, неустанно продолжающего расширяться путем завоеваний. Но это не всё. По мере того как власть мешиков простиралась на все большую территорию, сами их победы создавали вокруг них все более широкую усмиренную зону, до крайних пределов известного им мира. Где же тогда добыть необходимые жертвы, чтобы предоставить богам их пищу — тлашкальтилистли ? Где взять драгоценную кровь, без которой солнце и вся машина мироздания обречены на небытие? Приходилось поддерживать войну. Отсюда эти странные «войны цветов» ( шочийаойотль ), которые приняли характер постоянного явления после ужасного голода, опустошившего Центральную Мексику в 1450 году.
Читать дальше