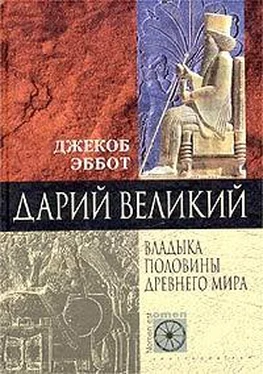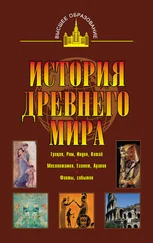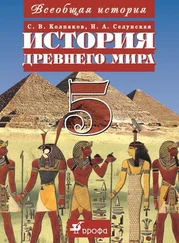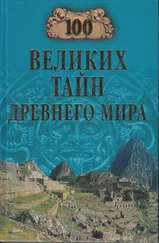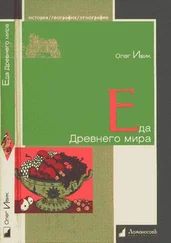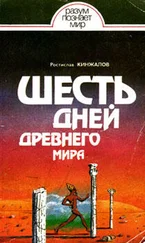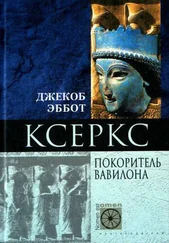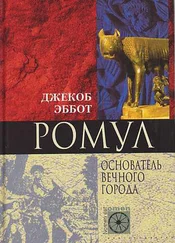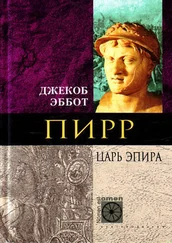Вскоре Мильтиад решил снять осаду Пароса и вернуться в Афины. Он вернулся домой без богатой добычи. Разочарование афинян вскоре сменилось неприязнью, о славе победителя в Марафонской битве все забыли. Враги и соперники, умолкшие после его успехов, воспрянули духом. Они связывали неудачу с неумелым командованием экспедицией.
Один из ораторов даже предложил лишить Мильтиада статуса, обвинив его в том, что его подкупили персы и потому осада Пароса превратилась в фарс. Военачальник не мог опровергнуть эти обвинения, поскольку лежал в это время в постели, корчась от боли. Вывих перешел в открытую рану. Усилия лекарей не принесли выздоровления. Больной быстро терял силы. Его сын Кимон делал все возможное, чтобы спасти отца от обеих опасностей. Он защищал отца в ходе судебных разбирательств и оказывал ему врачебную помощь в тюремной камере. Однако хлопоты сына не дали результатов. Трибунал признал Мильтиада виновным, военачальник умер от раны.
Его приговорили к выплате огромного штрафа. Он составлял сумму расходов города на экспедицию в Парос, и, поскольку сборы на экспедицию проходили через ведомство Мильтиада, того обязали возместить их потерю. Этот приговор, так же как и отношение соотечественников с Мильтиадом, рассматриваются человечеством как несправедливые и жестокие. Когда Мильтиад умер, Кимон узнал, что не сможет получить тело отца для почетного захоронения, пока не выплатит штраф. У него не было собственных средств для этого. В конце концов Кимону удалось собрать необходимую сумму благодаря пожертвованиям родственников своего отца. Он внес сумму штрафа в городскую казну, тело героя было предано наконец земле.
Жители Пароса сначала крайне возмутились поведением жрицы Тимо. Им казалось, что она предала город. Паросцы даже хотели убить ее, но не посмели, поскольку лишение жизни жрицы выглядело кощунством. Тогда паросцы попросили оракула Дельфийского храма высказать свое суждение об обстоятельствах дела, узнать у него, может ли казнь жрицы считаться законной. По их словам, вина жрицы в том, что она указала врагу способ захватить город, более того, она осмелилась допустить врага на торжественные мистерии в храме, наблюдать которые запрещалось любому человеку нежреческого сословия. Оракул вынес суждение, что жрицу не следует наказывать, поскольку она не совершила ничего дурного. Крах Мильтиада был предопределен богами, а Тимо невольно служила инструментом осуществления его судьбы.
Но вернемся к Дарию. Его стремление подчинить греков и присоединить их страну к своим владениям, его решимость осуществить свою цель не только не уменьшились, а усилились после того, как первое вторжение персидской армии на греческую территорию было отбито. Афиняне разгневали царя. Казалось, он рассматривал их мужество и энергию в защите родины как личное оскорбление и преступление. Дарий решил организовать новый поход в Грецию, мобилизовав еще больше сил и средств. На этот раз он решил сам командовать армией и приготовиться к походу так, как подобает великому властителю половины мира. Царь разослал повеления во все провинции и подвластные территории выделить свои квоты войск, лошадей, кораблей и военного снаряжения и сосредоточить их в пунктах сбора, которые он назовет перед выступлением в поход.
Подготовка к походу длилась несколько лет. Но прежде чем реализовать свои завоевательные планы, царь решил урегулировать вопрос о наследовании престола. У него было несколько сыновей, каждый из них мог претендовать на трон, если царь не вернется из похода, а также вовлечь империю в разрушительные гражданские войны для подкрепления своих претензий. Историки утверждают, что в Персии даже существовал закон, не позволяющий монарху покидать страну без назначения наследника. Трудно себе представить, на основе какой власти или авторитета этот закон мог претворяться в жизнь, или поверить в то, что монархи, подобные Дарию, могли считаться в своих действиях с каким-либо законом. Во всех сообществах, диких или цивилизованных, существуют законы, регулирующие отношения между людьми. Они опираются на обычаи или юридические постановления судов. Большинство деспотических правителей и абсолютных монархов считают себя обязанными следовать этим законам в тех случаях, когда они определяют судьбы их подданных. В тех же случаях, когда речь идет об их поступках или решениях, они редко признают какую-либо иную власть, кроме импульсов собственной самодержавной воли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу