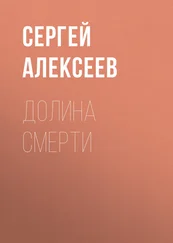Прибыли на ст. Малая Вишера. Меня внесли в помещение вокзала и на носилках опустили на пол среди таких же тяжелораненых, как и я. Малая Вишера была промежуточным этапом эвакуации, и я, возможно, забыл бы о нем, если б не одно обстоятельство. Между ранеными пробирался младший лейтенант, бережно ведя под руку сестру милосердия. Это был мой первый помощник, а сестра — из батальонного санвзвода. Они дружили. Сестра была ранена в лицо. Увидев меня, они подошли. Оба плакали. У девушки осколком была срезана щека и вырван глаз. Младший лейтенант рассказал, что от нашего батальона в ночь наступления на Спасскую Полисть осталось невредимыми всего 320 человек, т. е. треть состава.
Снова я осознал весь трагизм нашей провалившейся атаки. Гораздо позже я понял значение наступлений полуголодных, плохо вооруженных бойцов, но тогда был морально подавлен. Мне казалось, что кто-то виноват в бесцельной гибели людей. Нельзя было бросать нас на автоматы и крупнокалиберные пулеметы немцев безоружными!
Младшего лейтенанта пережитое так впечатлило, и он сказал, что не в силах вернуться в свой батальон. Что я мог ему возразить? Это было явное проявление трусости, слабости, но почему-то осуждать его не хотелось. Может быть, потому, что сам не считал себя героем, ибо откровенно радовался, что остался жив. И меня, к стыду моему, совершенно не тянуло снова попасть под ножи мясорубки, называемой войной.
Я сказал юноше: «Ты — на войне. И ты знаешь, что делается на войне: люди убивают друг друга. Если ты не убьешь — тебя убьют. Многие погибнут, но многие и останутся в живых. Может, тебе посчастливится выжить. Помни одно: в случае победы фашизма всем советским воинам, оставшимся в живых, грозит неминуемая физическая расправа. Мы с тобой находимся в самом пекле войны, и наш долг воевать и все делать для победы Родины. Если ты растерялся и не можешь совладать со своим страхом, то иди в штаб армии и проси другое назначение».
Конечно, Марка, за тридцать четыре года детали нашего разговора могли забыться, но общий смысл был именно таков.
После обеда меня и многих других раненых перенесли в автобусы и привезли в госпиталь г. Боровичи. Своего помощника я больше не встречал.
Госпиталь в Боровичах оставил самые мрачные воспоминания. Мы долго лежали на носилках в огромном пустынном вестибюле. Наконец пришли заспанные санитары и всех понесли в здание. Меня поместили в бывшую ванную или туалетную комнату. Вскоре я почувствовал, что мне на переносицу капает с потолка вода. Закрыл лицо рукой. Капли начали долбить по руке. Нервы напряглись до предела, казалось, еще немного этой японской пытки, и я сойду с ума. Начал звать кого-нибудь из медперсонала, но прошло довольно много времени, пока меня услышали и поместили на полу в огромном зале. Я понимал, что не имею никаких преимуществ перед другими ранеными, но, взбудораженный борьбой с каплями воды, потребовал немедленной врачебной помощи. Мне измерили температуру — 38,5 градусов — и тут же унесли на операционный стол. Хирург установил, что ранение у меня не осколочное, а пулевое, разрывной пулей. Входная рана была диаметром в 20 мм, а на вылете рваная рана длиной 16 см. После операции меня положили в палату, где и произошла моя встреча с майором Н. М. Старцевым, начштаба нашей бригады, о которой я тебе уже писал.
На другой день обнаружилось, что чемодан мой с личными вещами, в том числе и очки, пропали. Видно, мародеров и жуликов, как клопов, не выкуришь дымом, не заморозишь морозом. Но поскольку я всегда к вещам и деньгам относился философски, то недолго переживал из-за их пропажи, гораздо сильнее я разволновался, когда пытался писать левой рукой письмо Капе. Правая была забинтована. Кончики пальцев с каждым днем становились чернее: наступала гангрена. Судьба кисти или всей руки была обречена — это ясно. Нужно учиться работать левой. Как только я почувствовал улучшение общего состояния (боль и страшное жжение в обмороженной руке приучил себя не замечать), попросил ручку, листок бумаги и приступил к письму. Опустив руку с ручкой на бумагу, почувствовал, как меня охватывает панический страх: руке неудобно, не вижу, что пишу, — ни строчек, ни букв. В голову лезет одна навязчивая мысль: «Не научишься писать! Не сможешь работать!» С большим трудом, еле-еле, вкривь и вкось, нацарапал начало письма и тут же, вспотев от напряжения, оставил напрасные попытки. Я готов был плакать от отчаяния, но потом, овладев собой, начал думать, как повернуть ручку так, чтобы увидеть, что пишу, ведь есть же люди, которые пишут левой рукой. И, представь себе, Марка, нашел этот «ключик от золотого ларчика». Я понял, что при письме нужно делать левой все наоборот: пишущий правой рукой наклоняет кисть с ручкой вправо, я же должен наклонять влево. Убедившись в правоте своего «открытия», я легко вздохнул и написал Капе длинное письмо.
Читать дальше
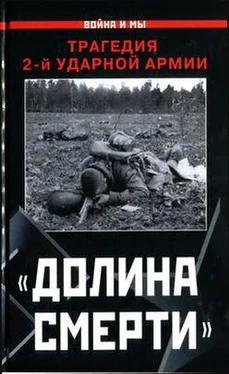
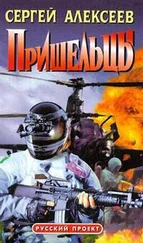

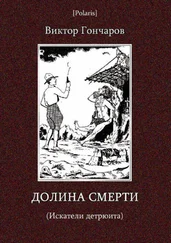



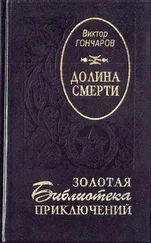
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)