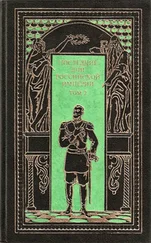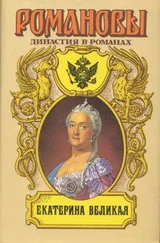было, и уже знала сестра стороною, что тех, кто жаловался, наказывали, сажали в карцер, 'подвешивали за руки, лишали пищи.
Первый раз увидела она пленных в Вене, в большом резервном госпитале. Там было сосредоточено несколько сот русских раненых, подобранных на полях сражений.
С трепетом в сердце, сопровождаемая австрийскими офицерами, поднялась она по лестнице, вошла в коридор. Распахнулась дверь, и она увидела больничную палату.
О ее приезде были предупреждены. Ее ждали. Первое, что бросилось ей в глаза, были белые русские рубахи и чисто вымытые, бледные, истощенные страданием, голодом и тоскою лица. Пленные стояли у окон с решетками, тяжело раненные сидели на койках, и все, как только появилась русская сестра в русской косынке и апостольнике, с широким красным крестом на груди, повернулись к ней, придвинулись и затихли страшным, напряженным, многообещающим молчанием.
Когда сестра увидела их, столь ей знакомых, таких дорогих ей по воспоминаниям полей Ломжи и Ивангорода, в чуждом городе, за железными решетками, во власти врага, -- она их пожалела русскою жалостью, ощутила чувство материнской любви к детям, вдруг поняла, что у нее не маленькое девичье сердце, но громадное сердце всей России, России-Матери.
Уже не думала, что надо делать, что надо говорить, забыла об австрийских офицерах, о солдатах с винтовками, стоявших у дверей.
Низко, русским поясным поклоном, поклонилась она всем и сказала:
-- Россия-Матушка всем вам низко кланяется.
И заплакала.
В ответ на слова сестры раздались всхлипывания, потом рыдания. Вся палата рыдала и плакала.
Прошло много минут, пока эти взрослые люди, солдаты русские, успокоились и затихли.
Сестра пошла по рядам. Никто не ./палии алея ни на что, никто не роптал, но раздавались полные тоски вопросы:
-- Сестрица, как у нас?
-- Сестрица, что в России?
-- Сестрица, чья теперь победа?
Было плохо. Отдали Варшаву, отходили за Влодаву и Пинск.
-- Бог милостив... Ничего... Бог поможет... -- говорила сестра и понимали ее пленные.
-- Давно вы были в церкви? -- спросила их сестра.
-- С России не были!--раздались голоса с разных концов палаты.
Сестра достала молитвенник и стала читать вечерние молитвы, как когда-то читала их раненым. Кто мог -- встал на колени, и стала в палате мертвая, ничем не нарушаемая тишина. И в эту тишину, как в сумрак затихшего перед закатом леса, врывается легкое журчанье ручья, падали кроткие, знакомые с детства слова русских молитв.
Молитвою была сильна Императорская Православная Россия, сильна и непобедима.
На секунды оторвалась от молитвенника сестра и оглядела палату. Выражение сотни глаз пленных ее поразило. Устремленные на нее, они видели что-то такое прекрасное и умиротворяющее, что стали особенными, духовными и кроткими. Сердца их очищались молитвою. "Блаженны чистые сердцем, яко Бога узрят", -- подумала сестра и поняла, что они Бога видели.
Когда настала молитвенная тишина, один за другим стали выходить из палаты австрийские офицеры, дали знак и ушли часовые. Сестра осталась одна с пленными.
Она кончила молитвы. Надо было идти на следующий этаж, а никого не было, кто бы указал ей дорогу.
Сестра вышла на лестницу и там нашла всех сопровождавших ее.
-- Мы вышли,--сказал старший из австрийских офицеров, -- потому что почувствовали Бога. Мы решили, что вы можете ходить по палатам и посещать пленных без нашего сопровождения.
Они поверили сестре.
x x x
Сестра боялась, что пленные, жаловавшиеся ей, будут наказаны. Она знала, что, хотя австрийцы и не следят более за нею по палатам, но в каждом помещении есть свои шпионы и доносчики. Эту роль на себя брали по преимуществу евреи, бывшие почти везде переводчиками.
Генерал-инспектором лагерей военнопленных был генерал Линхард. Он отлично относился к сестре и был с нею рыцарски вежлив.
-- Генерал, -- сказала сестра, отдавая ему отчет о первом посещении пленных, -- теперь такое ужасное время. Я послана как официальное лицо, и вы являетесь тоже лицом официальным. Но забудем это... Будем на минуту просто людьми. Мы, русские, любим жаловаться, плакаться, преувеличивать свои страдания, клясть свою судьбу, это нам облегчает торе. Солдаты видят во мне мать, и как ребенок матери, так они мне хотят излить свое горе. Верьте мне -- я не буду пристрастна, я сумею отличить, где правда и где просто расстроенное воображение. Я не позволю использовать себя во вред вам. Я даю вам слово русской женщины. Но мне говорили, что тех, кто жалуется, будут жестоко наказывать... Так вот, генерал, дайте мне честное слово австрийского генерала, что вы отдадите приказ не наказывать тех, кто будет мне жаловаться.
Читать дальше