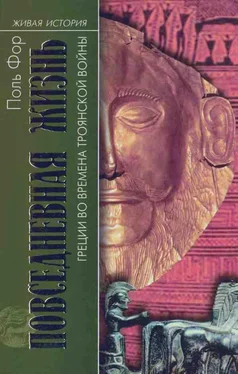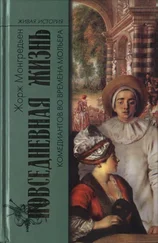Пастух понимал, какое сокровище ему доверено охранять: это большая часть мяса, молока и сыра, составляющих рацион его сограждан, а заодно — гигантский склад шерсти, основа чуть ли не всего местного ткачества. Удалось подсчитать, что от семидесяти до ста тысяч овец, принадлежавших кносскому дворцу, получали примерно 50 тысяч тонн неочищенной шерсти в год, что позволяло производить около пяти тысяч штук тканых предметов, в среднем по девять килограммов весом, — кусков материи, одеял, одежды, ковров. А некоторые произведения ткаческого искусства весили и по 60 килограммов. Стадами овец владели по крайней мере 40 городков, а еще около шестидесяти занимались обработкой шерсти. Только на табличках кносского писца-117 дана опись шестидесяти двух тысяч овец, а в ведомостях его коллеги-103 составлен настоящий план производства шерсти на грядущий год: 30 % ее предполагалось отправить в мастерские, управляемые счетоводом и использующие труд от 600 до 900 женщин и нескольких сотен мужчин (и те и другие получали сдельную плату продуктами питания), а 70 % — обработать в домашних условиях. Писец-116 в одиночку провел инвентаризацию склада тканей, весивших приблизительно четыре тонны. Известно также, что численность овец несколько превышала число жителей — это подтверждает известная нам на протяжении 75 лет статистика, проводившаяся в Ахайе, Арголиде, Элиде, Мессении и на Крите. В таком случае, если власть повелителей Кносса и Пилоса распространялась на 80 тысяч душ или около того, можно допустить, что по крайней мере четверть населения жила за счет стрижки овец и дальнейших процессов, связанных с обработкой шерсти.
Так каким же великим событием, очевидно, был тот день в начале лета, когда в каждом из тысяч стад пастух заваливал первого барана и, пока двое помощников держали животное за ноги, быстро снимал шерсть, poka , бронзовым лезвием, начиная с живота и ног и заканчивая шеей! Черную и желтую шерсть, грязную от навоза и пота, сворачивали в тюки, нагружали на спины осликов и мулов и медленно, но верно, по горным тропам, доставляли к месту назначения — в «районный центр». Там свою долю взимали чиновники царя, жрецы, главы общин, сукновалы, а счетоводы и их секретари суровым оком надзирали за точностью расчетов. Была ли эта «сходка», akora , праздником, давшим впоследствии имя общинной площади, центру политической жизни греческого полиса? Или ее принимали как тяжкое испытание?
Так или иначе, пастухи продолжали трудиться на горных лугах. В августе их начинало беспокоить и появление первых проплешин на пастбищах. Для беременных самок и нездоровых самцов надо было искать более свежие и зеленые места, потому что отныне животным требовалось значительно больше воды и пищи. Для осенней подпитки и ягнения стада возвращались на давно покинутые пастбища. Тогда же маркировали особей, которых дома рассчитывали принести в жертву, — старых, больных, ненужных. Изучение костей, найденных в пещерах побережья, показало, что две трети их принадлежали козлятам и ягнятам. Микенцы, по всей видимости, предпочитали нежное мясо. Мелкие косточки часто сохраняли для игры, метания жребия и прорицаний. В часы досуга, пока животные мирно пережевывали жвачку, старшие пастухи затевали игры, ведь среди подпасков было полным-полно детей. Начинались состязания по борьбе, бегу и скалолазанию. Старшие учили молодежь плести корзины, вырезать из дерева и шить, ибо на альпийских лугах пастухам всегда нужны корзины, сосуды, посохи, метательное оружие, силки и, конечно, одежда, которая была бы непохожа на лохмотья. Кроме того, ребят приучали разбираться в камнях, травах, животных и знакомили с искусством отгонять злых духов и избегать их тенет. Юнцам показывали, как высечь огонь, потерев две палочки. Им пели о деяниях богов и героев, некогда живших среди таких же пастухов, — об Аполлоне, Гермесе, Геракле, Амфионе, Зете и Орфее, причем певцы сами аккомпанировали себе на дудочках, сирингах или флейтах Пана, сделанных из стеблей тростника разной длины, а в Аркадии — частенько на семи-восьмиструнных лирах. Дека этой своеобразной гитары делалась из панциря черепахи, а изогнутые бока — из козьих рогов. Как говорит автор «Гимна Гермесу»: «Под перстами его инструмент издавать стал дивные звуки». Значение музыки и пения в пастушеском мире переоценить невозможно, тем более что оно подтверждается многими свидетельствами. Искусство не просто рассеивало грусть, задавало ритм работе, успокаивало и исцеляло, оно поддерживало воинственный дух народа и его жизнерадостность. Вспомним, что единственное из всех искусств — пение — не стало исключительной прерогативой аристократии, а оно способно выразить все — от сатиры до любви.
Читать дальше