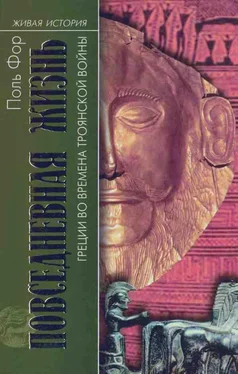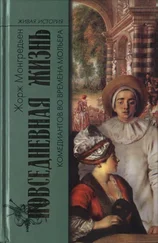В этом и заключался парадокс разлагающей активности, каковой явилась война для микенского мира в период его расцвета: давая волю самому яростному индивидуализму, вплоть до разрушения структур цивилизации, она больше сделала для развития отношений между людьми, и в конечном счете — гуманизма, чем все политические, экономические и общественные установления того времени. Родившись из охоты и игры, война превратилась в особого рода культуру и спорт. Мы обязаны этому миру бойцов, солдат и воинов, регулярных ратников и партизан победами духовного порядка, надгробными панегириками, легшими в основу грандиозных спортивных состязаний. Плодородны могилы великих мертвецов! В Фивах вокруг гробницы Эдипа, авантюриста, ставшего царем и погибшего от удара копья («Илиада», XXIII, 678–680), собирались плакальщицы и жрецы, совершавшие жертвоприношения, и старая царица, которая могла бы быть его матерью, и сыновья, готовые вцепиться друг другу в глотку. Вот умолкают последние взывания, последние крики и вопли скорби, и тогда кто-то, певец и прорицатель (почему даже не слепец Тиресий?), заводит песнь, величая победы усопшего героя. Каждый год воины будут приходить на его могилу, дабы заклать жертвы или сделать возлияния, и уже другие певцы подхватят и расцветят первоначально горестную песнь. Они сделают из Эдипа великого отшельника гор Фокиды и Беотии, страдальца, мудреца, мученика за правое дело, полубога. Эти бесконечно повторяемые жалобные песни породят часть фиванского эпического цикла — «Эдиподию» и станут источником бесчисленных трагических сюжетов. Аналогичным образом Геродот («История», V, 67) показывает нам, каким поклонением древние обитатели Сикиона окружали героя Адраста, предводителя экспедиции Семерых против Фив: «Среди иных воздаваемых ему почестей, трагические хоры пели о его несчастной судьбе. Дионису почестей не воздавали. Все они предназначались Адрасту». К трагическим хорам гений греков присовокупит диалог — и родится трагедия.
Официально греки исчисляли свою историю с первого года первой Олимпиады, то есть — с 776 года до н. э. Но все они знали, что по меньшей мере за 500 лет до этой даты на Пелопоннесе устраивались состязания на колесницах и единоборства либо Пелопсом, сыном Тантала, либо Гераклом. Эти соревнования считались не менее престижными, чем погребальные игры, посвященные памяти Эномая, царя Элиды, убитого Пелопсом. Археология подтверждает не только существование святилища и поселения в Олимпии в середине бронзового века, но и обычай устраивать конные соревнования в честь того или иного знаменитого усопшего, распространенный задолго до 1 ООО года до н. э. Автор уже цитированной XXIII Песни «Илиады» рассказывает, что похороны Эдипа сопровождались играми и, в частности, состязаниями кулачных бойцов. То был наилучший способ разделить имущество покойного, избежав братоубийственных стычек и несправедливостей жеребьевки, более того, лучший вариант «божьего суда», ибо он заставлял наследников соревноваться друг с другом: «И пусть достойнейший из вас победит!» Похоронные игры — это сражение, которое заканчивается во благо и благом оборачивается. Благодаря им война завершалась лучше, чем начиналась. Здесь сражались не для того, чтобы убить, а чтобы получить удовольствие, расслабиться и забыть о возможности собственной гибели. Наконец, соревнования противников, демонстрация силы, ловкости, хитрости и энергии — это также почести, воздаваемые ушедшему. Именно они могли укрепить его дух в потустороннем мире, где вечно трепещут бесплотные и печальные тени.
Нам уже чужда такая цель спортивных состязаний, но признаем хотя бы, что некогда спорт обладал иным благородством, иным величием, нежели у нас, и что, если микенцы слишком часто убивали друг друга, греки сумели извлечь из их опыта нечто мудрое. Геракл, ставший покровителем гимнастических залов и стадионов, составляет в истории пару Орфею, прародителю и идеалу всех эпических поэтов.
Духовенство существует, чтобы молиться, аристократия — для сражений, а земледельцы — чтобы кормить их всех. Так думали в Средние века и так частенько продолжают представлять себе микенское общество. Удивительная наивность! Если считать земледельцем того, кто живет на земле города и возделывает ее, то в этом так называемом третьем сословии окажется больше делений и градаций, чем мы видели в двух других. И потом, не следует забывать о ремесленниках, живущих то в городе, то в деревне. А кое-кто из ремесленников и садовников вообще пределов города никогда не покидал. Кроме того, были еще моряки. И возможность сменить профессию. Осенью пастух становился поденщиком, а поденщик, коли надо, брался за копье или весло и превращался в солдата, морехода или торговца. Греки не отличались большой оседлостью, особенно на островах, бесплодная или разоряемая наводнениями земля то и дело изгоняла своих детей. Достаточно просто взглянуть, как жители горных и равнинных земель строят дома, по меньшей мере пяти разных типов, и мы сразу уловим в них застарелый средиземноморский индивидуализм.
Читать дальше