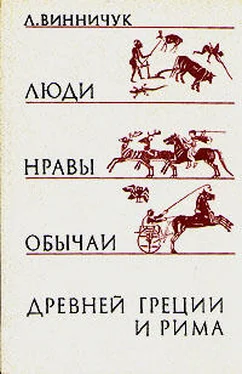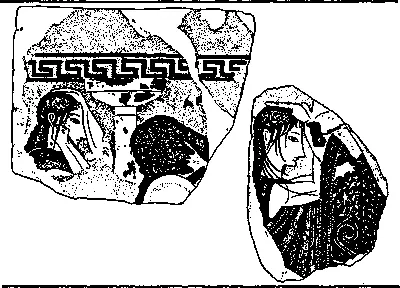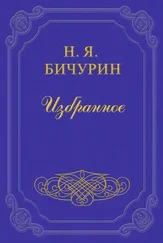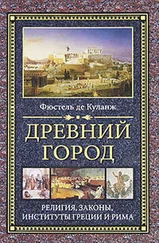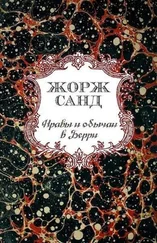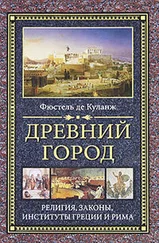Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LXVI, 42—43
Философская мысль греков проникает в Рим только во II в. до н. э., чтобы в следующем столетии заметно обогатить римскую литературу, вдохновляя собой и философскую поэму Лукреция Кара, и трактаты Цицерона. Авторы, писавшие по-латыни, теперь также стали уделять все больше внимания проблемам жизни и смерти. До этого, да во многом и позже отношение к смерти и связанные с этим обычаи определялись местными — латинскими, этрусскими, затем и греческими — традициями и верованиями.
Похоронная процессия
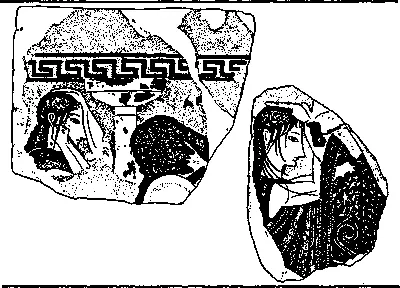
Первоначально, по всей видимости, в Италии, как и в других средиземноморских странах, господствующей формой погребального обряда было захоронение трупов в землю. Но уже в одном из древнейших римских памятников — в «Законах XII таблиц» (середина V в. до н. э.) — упоминается и обычай закапывать тела умерших, и другой обычай — трупосожжение. В дальнейшем практиковались обе формы погребального обряда, но предпочтение римляне отдавали все же сожжению умершего на костре. Ссылаясь на пример греков, Цицерон утверждает, что и в Италии мертвых поначалу хоронили в земле, по-матерински облекавшей их своим покрывалом. «Мне лично кажется, — пишет он, — что самым древним видом погребения был тот, каким у Ксенофонта пользуется Кир: тело возвращают земле, помещают и кладут его, как бы обволакивая покровом матери. По такому же обряду, в могиле, расположенной вблизи алтаря Родника был погребен наш царь Нума, а род Корнелиев, как известно, вплоть до наших дней прибегает к такому виду захоронения». После того как Сулла приказал разорить могилу своего противника Мария, он, боясь, как бы и с его останками этого не случилось, велел сжечь свое тело (О законах, II, 56–57).
Когда те, кто окружал умирающего, понимали, что конец уже недалек, кто-либо из близких родственников приникал губами ко рту умирающего, как бы принимая в себя его последнее дыхание. Остальные же из присутствовавших начинали громко оплакивать усопшего и причитать над ним, выкликая его имя, дабы, как считалось, удержать отлетавшую душу. Тело укладывали на пол, чтобы умерший соприкоснулся с землей, а Затем гасили огонь в домашнем очаге.
Римская жизнь всегда была, как известно, пронизана духом права, законности: все стороны жизни регулировались нормами права. Когда умирал римлянин, его семья обязана была немедленно оповестить о его смерти соответствующих должностных лиц, располагавшихся при храме Либитины — богини смерти и погребения (со временем ее стали отождествлять с Прозерпиной, женой Плутона, владычицей подземного царства). Заявляя в похоронное ведомство о своей утрате, родственники покойного выплачивали при этом некоторую сумму денег в качестве «подати Либитине». Особый чиновник — либитинарий вносил имя скончавшегося в список умерших граждан и принимал заказ на организацию похорон. Услугами либитинария пользовались только люди состоятельные, способные за них заплатить, а стоили они дорого. Либитинарий присылал в дом покойного полликторов, занимавшихся всем, что полагалось по обряду: они обмывали тело, умащали его благовониями, одевали, украшали голову усопшего венком из цветов. У либитинария можно было нанять также плакальщиц, флейтистов и людей, которые бы несли гроб до места его последнего упокоения — к могиле, вырытой в земле, или к погребальному костру.
Обмытое, одетое в тогу, соответствовавшую социальному статусу покойного, тело укладывали затем на катафалк. При этом не забывали и положить умершему в рот монету, чтобы было чем заплатить Харону. Обычай этот сохранялся в Риме и тогда, когда большая часть общества уже скептически воспринимала старые предания о подземном царстве Плутона-Аида, о реке Стикс, о перевозчике душ Хароне. В Риме II в. н. э. традиционные верования вызывали чаще всего иронические усмешки, и не только у сатирика Ювенала:
Что преисподняя есть, существуют какие-то маны,
Шест Харона и черные жабы в пучине стигийской,
Что перевозит там челн столько тысяч людей через реку, —
В это поверят лишь дети, еще не платившие в банях.
Ювенал. Сатиры, III, 149–152
Ложе с телом усопшего или катафалк ставили в атрии дома, изножьем к входной двери. Рядом зажигали масляные лампы или стояли рабы с горящими факелами. Поодаль — родственники, вольноотпущенники, друзья и знакомые. Перед домом помещали ветви деревьев, посвященных подземным богам, — кипариса или сосны, и это служило знаком для прохожих, что они идут мимо дома, где кто-то недавно скончался. Те же, кто хотел войти и прикоснуться к покойному, попрощаться с ним, должны были, как и в Греции, совершить ритуальное очищение.
Читать дальше