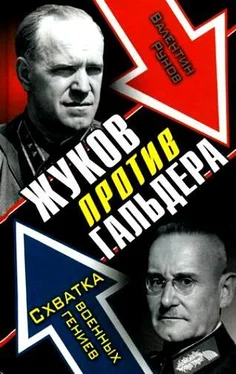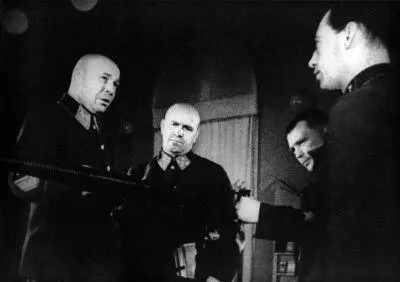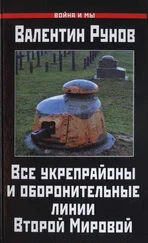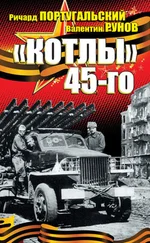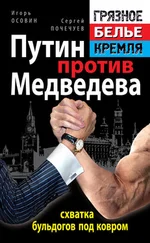Таким образом, при разработке главного документа оперативного применения войск Генеральный штаб РККА в лице вначале К.А. Мерецкова, а затем Г.К. Жукова проявлял определенные колебания и затянул время. Но на основании этих Соображений должны были разрабатывать свои планы военные округа, армии, корпуса и дивизии.
На основании Соображений разрабатывались оперативные планы прикрытия государственной границы военных округов и армий. Времени на эту работу оставалось очень мало.
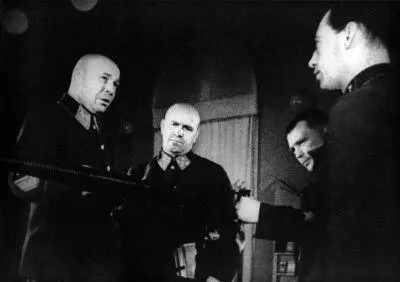
С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков в Генеральном штабе РККА
Так, План прикрытия государственной границы, разработанный Генеральным штабом, был доведен до штаба Прибалтийского Особого военного округа в начале мая 1941 года. На основании этого документа штаб округа должен был разработать и довести до армий План прикрытия сухопутной границы с Восточной Пруссией, что и было сделано. О том, как это происходило, сохранились воспоминания бывшего командующего 8-й армией генерала П.П. Собенникова. В частности, он пишет:
«Должность командующего армией приграничного военного округа обязывала меня ознакомиться прежде всего с планом обороны государственной границы с целью уяснения места и роли в этом плане вверенной мне армии. Но, к сожалению, ни в Генеральном штабе, ни по прибытии в Ригу, в штаб Прибалтийского Особого военного округа, я не был информирован о наличии такого плана. По прибытии в штаб 8-й армии, в г. Елгава, я также не нашел никаких указаний по этому вопросу. У меня складывается впечатление, что вряд ли в это время (март 1941 г.) такой план существовал. Лишь 28 мая 1941 года я был вызван с начальником штаба армии генерал-майором Ларионовым Г.А. и членом Военного совета дивизионным комиссаром Шабаловым С.И. в штаб округа, где командующий войсками округа генерал-полковник Кузнецов Ф.И. буквально наспех ознакомил меня с планом обороны.
В штабе округа в этот день я встретил командующего 11-й армией генерал-лейтенанта Морозова В. И., начальника штаба этой армии генерал-майора Шлемина И. Т., командующего 27-й армией генерал-майора Берзарина Н. Э., его начальника штаба и членов Военных советов обеих армий. Командующий округом принимал командующих армиями отдельно каждого и, видимо, давал им аналогичные указания – срочно ознакомиться с планом обороны, принять и доложить ему решение» [48].
Далее командующий 8-й армией вспоминает, что план представлял собой довольно объемистую тетрадь, текст в которой был напечатан на машинке. Примерно через полтора-два часа после получения плана, еще не успев с ним ознакомиться, командующий армией был вызван к командующему округом, который в затемненной комнате с глазу на глаз продиктовал ему его решение на оборону. Оно сводилось к сосредоточению главных усилий армии на направлении Шауляй – Таурагу (125-й и 90-й стрелковых дивизий) и прикрытию границы от Балтийского моря (м. Паланга) на фронте около 80 километров силами одной 10-й стрелковой дивизии 11-го стрелкового корпуса. 48-ю стрелковую дивизию предполагалось перебросить на левый фланг армии и удлинить фронт обороны левее 125-й стрелковой дивизии, прикрывающей главное направление. 12-й механизированный корпус (командир – генерал-майор Н.М. Шестопалов) выводился севернее Шауляя во второй эшелон армии. Однако право отдачи приказа командиру этого корпуса командующему 8-й армией не предоставлялось. Он должен был использоваться по приказу командующего фронтом.
После этого рабочие тетради с записями по плану обороны у командующего армией и его начальника штаба были изъяты. Было обещано, что эти тетради будут немедленно высланы в штаб армии специальной почтой. «К сожалению, после этого никаких указаний и даже своих рабочих тетрадей мы не получили, – признается командующий армией. – Таким образом, план обороны до войск не доводился» [49].
Не лучше обстояло дело с оперативным планированием в войсках Западного Особого военного округа. Так, начальник штаба 10-й армии генерал П. И Ляпин пишет: «План обороны госграницы 1941 года мы делали и переделывали с января до самого начала войны, да так и не закончили. Изменения в первой директиве по составлению плана за это время поступали три раза, и все три раза план приходилось переделывать заново. Последнее изменение оперативной директивы лично мной было получено в Минске 14 мая, в которой было приказано к 20 мая закончить разработку плана и представить на утверждение командующему округом. 18 мая в Минск заместителем начальника оперативного отдела штаба армии майором Сидоренко было доставлено решение командарма на карте, которое должен был утвердить командующий войсками округа. Майор Сидоренко вернулся вечером 19 мая и доложил, что генерал-майор Семенов – начальник оперативного отдела штаба округа – передал: «В основном утверждено, продолжайте разработку». Никакого письменного документа об утверждении плана майор Сидоренко не привез.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу