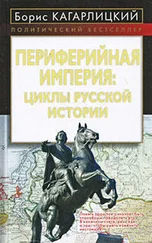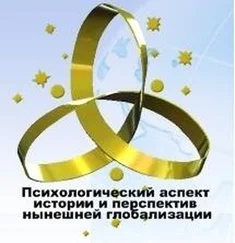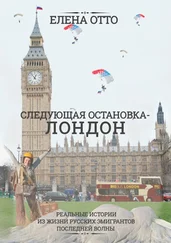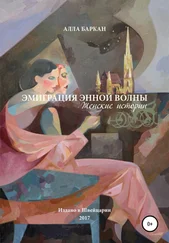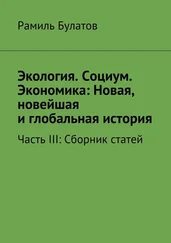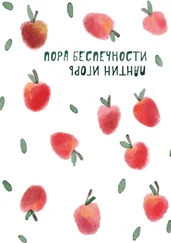И далее: «Осевое время служит ферментом, связывающим человечество в рамках единой мировой истории. Осевое время служит масштабом, позволяющим нам отчетливо видеть историческое значение отдельных народов для человечества в целом» [Ясперс, 1994, с. 76]. Ясперс объясняет также, почему осью мировой истории не могут быть такие действительно грандиозные повороты в истории отдельных цивилизаций, как возникновение христианства или ислама: «Между тем христианская вера — это лишь одна вера, а не вера всего человечества. Недостаток ее в том, что подобное понимание мировой истории представляется убедительным лишь верующему христианину. Более того, и на Западе христианин не связывает свое эмпирическое постижение истории с этой верой. Догмат веры не является для него тезисом эмпирического истолкования действительного исторического процесса. И для христианина священная история отделяется по своему смысловому значению от светской истории. И верующий христианин мог подвергнуть анализу самую христианскую традицию, как любой другой эмпирический объект» [Ясперс, 1994, с. 32].
Конечно, возникновение христианства имело важнейшее значение не только для западноевропейской или византийской (а позднее и российской) цивилизаций. Возникновение христианства косвенно повлияло и на возникновение ислама. Неслучайно именно христианский (хотя бы внешне) Запад стал центром мирового развития с XV–XVI вв. Но Ясперс, по–видимому, прав в том отношении, что рассматривать возникновение христианства как ось всей мировой истории было бы неправомерно; скорее его надо было бы считать узлом и своеобразным эпицентром истории, к которому сходятся некоторые важные линии, идущие от осевого времени, например, традиция иудейских пророков, древнегреческая философская традиция и некоторые другие. Такой подход не умаляет всемирно–исторического значения возникновения христианства, он лишь по–другому расставляет акценты и показывает, что без осевого времени христианство не было бы воспринято в том виде, как мы знаем.
Следует отметить, что не все историки и философы истории принимают концепцию осевого времени К. Ясперса. В то же время серьезных и глубоко аргументированных возражений против этой концепции выдвинуто не было. Пожалуй, наиболее радикальным противником концепции осевого времени был крупный российский ученый Л.Н. Гумилев. Однако его возражения против идеи осевого времени носят главным образом эмоциональный характер и во многом не выдерживают критики. Во избежание возможных недоразумений подчеркнем, что этот факт сам по себе нисколько не уменьшает масштаба личности Л.Н. Гумилева. По поводу идеи осевого времени К. Ясперса Гумилев пишет следующее: «Как мы уже отмечали, К. Ясперс заметил совпадение акматических фаз этногенеза разных пассионарных толчков. Поскольку это отнюдь не начальные, исходные фазы, они всегда бросаются в глаза при поверхностном наблюдении. Отсюда и выводы Ясперса, хотя и логичные, но ведущие к заблуждению… При акматической фазе рефлексия мятущейся персоны, негодующей на устоявшийся быт, неизбежно единообразна. Поэтому–то и есть элемент сходства у Сократа, Заратуштры, Будды (Шакья Муни) и Конфуция: все они стремились упорядочить живую, кипучую действительность внесением того или иного рассудочного начала» [Гумилев, 2001, с. 552].
Обращает внимание, что Ясперс говорит об одном, а Гумилев — совершенно о другом. Совпадение «акматических фаз» в развитии различных этносов бывало и до, и после эпохи осевого времени, но почему–то оно не вело к тем крупным сдвигам и глобальным последствиям, на которые указывает Ясперс. «Мятущиеся персоны» были и будут всегда, но почему–то именно в эпоху осевого времени им удалось осуществить глобальный исторический перелом, приведший к возникновению человека такого типа, какой сохранился и по сей день. Очевидно, что дело здесь не только в «мятущихся персонах» с их рефлексией, а в гораздо более мощных исторических факторах, которые затронули жизнь не только отдельных людей, но и развитие целых цивилизаций, позволили закрепиться и стать необратимыми прорывам осевого времени. В своей критике Ясперса Гумилев стремится показать, что сдвиги и достижения осевого времени вскоре были утрачены: «Так погибли конфуцианские школы при наступлении железных отрядов ветеранов Цинь Ши Хуанди (III в. до н.э.). Так сгорели буддисты–махаянисты в кострах, подожженных брамином Кумариллой, объяснившим храбрым раджпутам, что Бог создал мир и наделил его бессмертной душой — атманом (VIII в.). Так были уничтожены иудейские святыни огненного Яхве (VII в. до н.э.). Так был зарезан туранцами Заратуштра во взятом ими Балхе (ок. VI в. до н.э.)… Но ужаснее всего была казнь Сократа, погибшего от афинских сикофантов»[Гумилев, 2001, с. 552 — 553].
Читать дальше