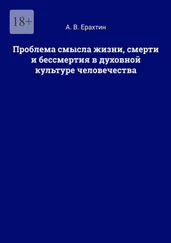Б Кузнецов - Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)
Здесь есть возможность читать онлайн «Б Кузнецов - Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие) — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Соответственно под "религиозностью" Эйнштейн понимал ощущение осмысленности существования, которое вытекает у человека из осознания мировой гармонии. Книга Эйнштейна "Mein Weltbild" - сборник его статей, написанных главным образом в двадцатые и тридцатые годы [6], - открывается заметкой "О смысле жизни", в которой говорится:
"Ответить на вопрос о смысле жизни - значит обладать религиозными чувствами. Ты спросишь меня: имеет ли смысл подобный вопрос? Отвечаю: тот, кто не видит смысла б своей жизни и в жизни себе подобных, тот не только несчастен, но едва ли сможет продолжать жить" [7].
4 Seelig, 426.
5 Успехи физических наук, 1956, 59, вып. 1, с. 144.
6 В сносках указаны страницы французского издания: Einstein A. Comment je vois le monde. Paris, 1934.
7 Comment je vois le monde, 7.
421
Слово "религиозность" не означает здесь какого-либо сходства между ощущением осмысленности жизни и гармонии бытия, с одной стороны, и религиозностью без кавычек, с другой. Эйнштейн исходил из сходства чисто психологического: ученый, охваченный ощущением мировой гармонии, забывает о собственном "я". Что же касается природы вселенского ratio, то позиция ученого противоположна позиции верующего. Последний ищет в мире управляющее им разумное существо. Ученый отбрасывает эту мысль и видит в мире безраздельное царство материальных причин.
"Напротив, ученый пронизан ощущением причинной обусловленности всего происходящего. Для него будущее не менее определенно и обязательно, чем прошедшее. Мораль для него не имеет в себе ничего божественного, она чисто человеческая проблема. Религиозность ученого состоит в восторженном преклонении перед гармонией законов природы... Это чувство - лейтмотив жизни и творческих усилий ученого в пределах, где он возвышается над рабством эгоистических желаний" [8].
Эйнштейн повторил как-то слова одного из современных авторов: "В наше время глубоко религиозными остаются лишь ученые, целиком преданные материалистическим идеям" 9. Эйнштейн заключает этой фразой статью "Религия и наука", которая в основном посвящена отрицанию религии и противопоставлению научного представления о природе вере в личного бога. Эйнштейн говорит, что восторженное ощущение упорядоченности мироздания объективной, материальной, каузальной! - заставляло Кеплера и Ньютона отдавать долгие годы уединенного напряженного труда поискам механизма небесных явлений [10]. Оно заставляет ученого последовательно стремиться к объективной истине вопреки господствующим в его время представлениям.
8 Comment je vois le monde, 39.
9 Ibid., 38.
10 Ibid., 37-38.
Это ощущение упорядоченности мироздания не имеет ничего общего с идеей личного бога и бессмертия души. Такую идею Эйнштейн отбрасывал самым решительным образом. "Я не могу принять этого иллюзорного бога, награждающего и наказывающего свое создание... Я не хочу и не могу также представить себе человека, остающегося в живых после телесной смерти, - что за слабые души у тех, кто питает из эгоизма или смешного страха подобные надежды" [11].
422
Эйнштейн благоговел перед природой, где нет места богу, где царит объективное ratio причинной связи, он благоговел перед вечной природой, в которой растворяется индивидуум, при постижении которой он теряет черты страха и эгоизма. "Мне достаточно, - продолжает Эйнштейн, - испытывать ощущение вечной тайны жизни, осознавать и интуитивно постигать чудесную структуру всего сущего и активно бороться, чтобы схватить пусть даже самую малую крупинку разума, который проявляется в природе" [12]. Соловин в письме к Эйнштейну протестовал против сближения этого ощущения с "религией". Эйнштейн отвечал:
"Я хорошо понимаю Вашу антипатию к термину "религия", когда он относится к эмоциональному, психологическому ощущению, столь отчетливо выраженному у Спинозы. Но у меня нет лучшего термина, чтобы обозначить чувство уверенности в разумной основе действительности и в ее принципиальной доступности человеческому разуму. Там, где этого чувства нет, наука вырождается в бездушный эмпиризм. Мне наплевать на то, что духовенство наживает на этом капитал. Против такой наживы все равно нет лекарства" [13].
11 Ibid., 13.
12 Ibid.
13 Lettres a Solovine, 103.
Характерная концовка! Эйнштейн был далек от общественных движений, борющихся за социальные идеалы под знаменем воинствующего свободомыслия, и не видел реальных путей к преодолению религии. Отсюда - известная безучастность к терминологии, существенной для размежевания идейных позиций. У Эйнштейна в центре внимания иная сторона дела. Она состоит в признании гармонии и познаваемости бытия и в признании парадоксальности и неожиданности его закономерностей. В одном из последующих писем Соловину Эйнштейн возвращается к проблеме "чуда" и "вечной тайны" в природе. По его словам, он должен внести ясность в этот вопрос, "дабы Вы не подумали, что я, ослабленный годами, стал добычен священников".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Эйнштейн (Жизнь, Смерть, Бессмертие)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



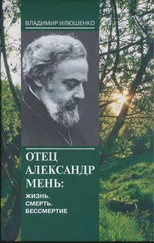

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)